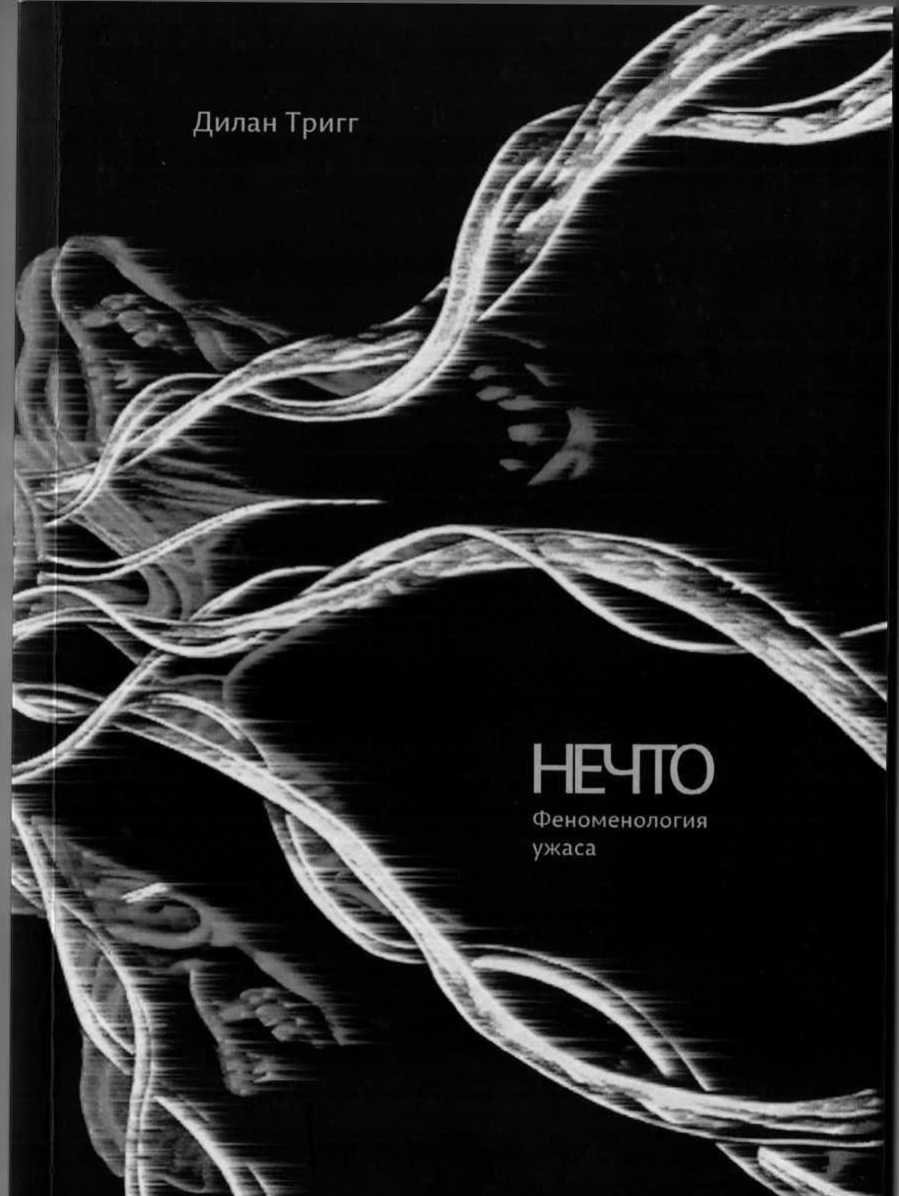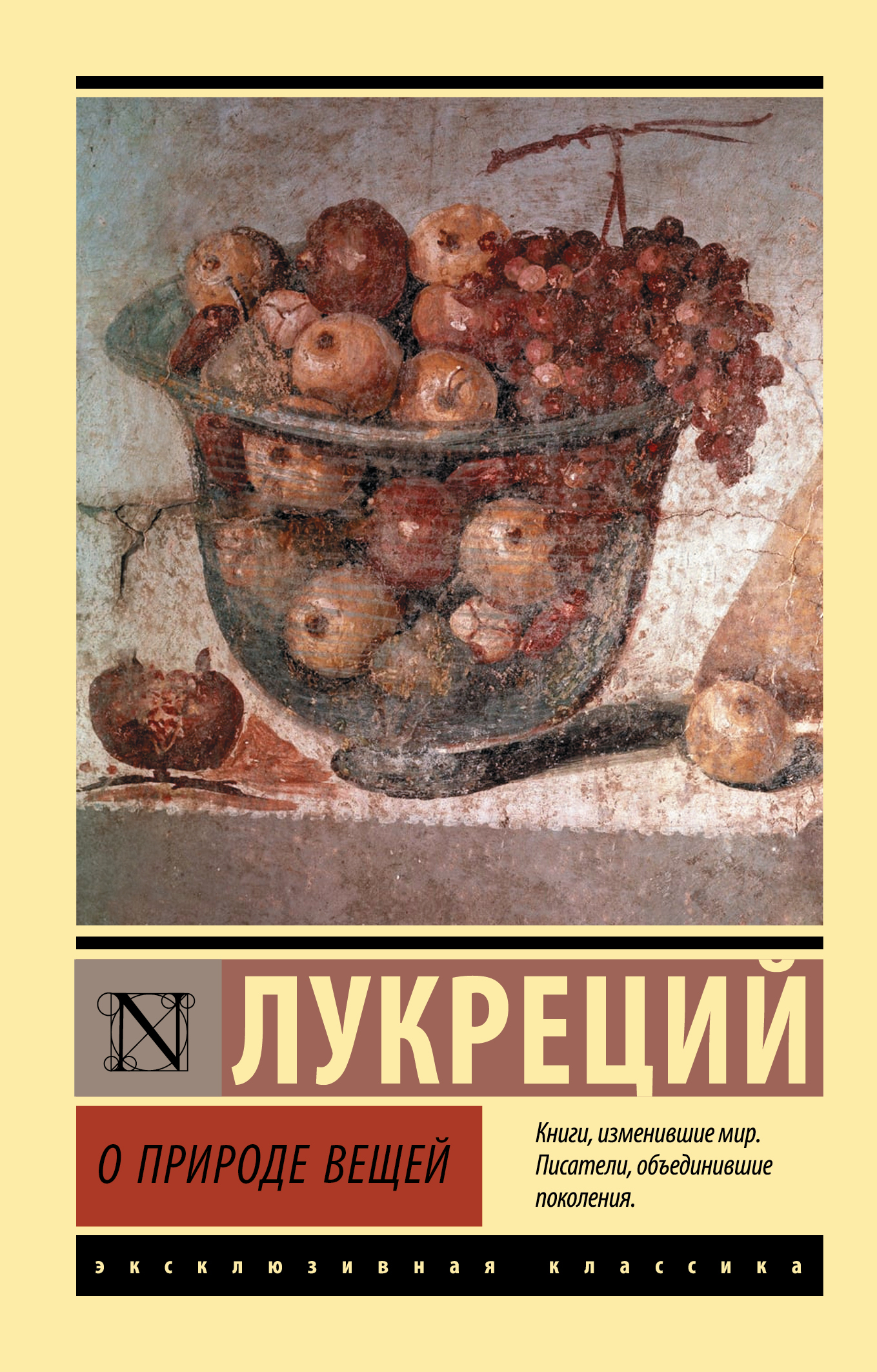благодаря реконструкции прошлого с точки зрения конечного человека в настоящем. В таком ключе прошлое для корреляциониста — это, по сути, глупость или уловка. Данность феноменального мира неизменно занимает главенствующее положение, то есть доисторичность никогда по-настоящему не может избежать этой связки, как и не размещает себя во временном отношении в качестве предшествующей данности: «Чтобы понять ископаемое, надо идти от настоящего к прошлому, в логическом порядке, а не в хронологическом — от прошлого к настоящему» (28).
Тут Мейясу утверждает, что корреляционизм смешивает временные порядки, редуцируя предшествование к простой временной дистанции. Если такие понятия, как древнее время или глубокое время, сохраняют свое место в феноменальной сфере, то идея сферы, предшествующей времени, нарушает это расположение: «Потому что проблема архиископаемого — это не эмпирическая проблема возникновения живых организмов, но онтологическая проблема возникновения данности как таковой» (Meillassoux 2008, 21) [26] По этой причине корреляционизм не только остается заперт в реляционной связке с миром, но и подчиняет это отношение пространственно-временному упорядочиванию, где время редуцируется до данности. Именно в сочленении двух разных пустот — одна из которых конституирована феноменальной сферой, а вторая тем, что за пределами феноменального, — корреляционизм тайно меняет свою направленность (22). Корреляционистская пустота обольщает тем, что располагает средствами, позволяющими установить отношение со сферой доисторического, и таким образом подчинить эту сферу феноменологии кажимостей. С другой стороны, спекулятивная пустота (если вспомнить истолкование Лаканом тревоги) — это такая пустота, которая никогда не обольщает.
Таким образом, сталкиваясь с вопросом о том, сформировалась ли Земля 4,56 миллиарда лет назад, корреляционист оказывается перед парадоксом. Строго объективно он должен ответить утвердительно. Наука, верифицированная сообществом ученых, может подтвердить подобные факты. Тем не менее эти же самые факты могут быть поняты только изнутри [своей] соотнесенности с самими учеными. Тут Мейясу привлекает наше внимание к явному слиянию объективной истины и субъективной относительности, которое приводит к бессмыслице (Мейясу 2015, 29). Все это служит основанием для бесповоротного реализма Мейясу, утверждающего, что или «высказывание имеет реалистический смысл, и только реалистический, или не имеет его вовсе» (30).
В конце главы о доисторическом Мейясу обращается к возможной критике своей позиции. Одно из возражений касается смешения между эмпирическим и трансцендентальным уровнями: «Эмпирический вопрос заключается в том, чтобы понять, как тела, которые были органическими до того, как обрели сознание, появились в среде, которая сама по себе была физической. Трансцендентальный вопрос состоит в том, чтобы определить, как возможна наука о физическом возникновении жизни и сознания» (Meillassoux 2008, 22).
На кону в противопоставлении эмпирического и трансцендентального опасность слияния кантовского или гуссерлевского субъекта познания с реальным телом, которое занимает определенное место в пространственно-временном мире. В отличие от плотской кажимости феноменального тела, трансцендентальный субъект познания существует только как идеал или набор условий, — такая точка зрения зачастую связывается с кантианством. Как таковое трансцендентальное тело не подвержено ни контингентности, ни конечности, но наоборот существует как инвариантная структура сознания.
Ясно, таким образом, что тут задействованы два порядка. Один — структурный набор условий; другой — набор феноменальных вещей, которые производны от этих условий. Об отношении между ними Мейясу пишет, что они «словно две стороны листа бумаги — абсолютно неразделимы, но никогда не пересекаются» (22). Однако именно к их пересечению апеллирует его воображаемый собеседник. Согласно критике, подобное слияние подразумевает сведение несуществующего субъекта познания к антропологизированному объекту (23). Если это верно, то такая критика трансформирует архиископаемое из онтологической проблемы предшествования в эмпирическую проблему глубины и дистанции.
Мейясу отметает это возражение как бесплодное (24). Он поступает подобным образом, потому что хотя и допускает, что трансцендентальный субъект действительно отличается от эмпирического субъекта, тем не менее «все равно необходимо утверждать, что трансцендентальный субъект есть, нежели то, что субъекта нет» (24). Точно так же, как эмпирическое тело — это вещь, занимающая место в пространстве и времени, трансцендентальный субъект «занимает место» и таким образом обретает «точку зрения» (24). Обеспечивая трансцендентальный субъект местом путем «воплощения в тело», мы можем начинать концептуализировать роль трансцендентального (25).
Тут Мейясу пытается показать нам, что очевидная экстериорность феноменологической мысли — это, по сути, интериорность, определяющая свои границы. Если трансцендентальный субъект — это условие эмпирических тел, то эмпирические тела тоже выступают условием трансцендентального субъекта. Для корреляциониста оба эти аспекта сворачиваются друг в друга. Поэтому временное отношение между этими порядками коллапсирует: аспект вневременности и несуществования трансцендентального субъекта познания становится локализованным продолжением тела в его эмпирическом существовании. Итак, трансцендентальное обнаруживает себя неспособным мыслить за пределами себя самого.
* * *
Рассмотрение Мейясу архиископаемых и доисторического времени иллюстрирует некоторые сложности, с которыми сталкивается трансцендентальное мышление по отношению к le grand dehors [великому внешнему — фр.] мира без людей. Будучи особенно полезна для описания некоторых тенденций в трансцендентализме, критика Мейясу феноменологии ограничена в нескольких отношениях, все из которых можно отнести на счет его понимания феноменологического субъекта. Для него субъект феноменологии унаследован Гуссерлем от Канта. Как таковой он (и это справедливо по отношению к данной линии рассуждений) сохраняет акцент на трансцендентальных условиях опыта. В связи с этим сохраняется реляционный узел, который связывает все вещи корреляцией с человеческими существами. Как мы видели, подобный взгляд приводит к серии противоречий для корреляциониста, в частности к его неспособности недвусмысленно ответить на вопросы о доисторическом. Подобная двусмысленность, недопустимая для Мейясу, приводит к ретроактивному жесту, из-за которого трансцендентальный субъект и проблема архиископаемого описываются с привилегированной точки зрения живого субъекта, такого субъекта, который воплощен в конечном теле. В итоге трансцендентальная мысль никогда не отрывается от собственных истоков и оказывается заперта в тупике феноменальной сферы, чрезмерно озабоченная границами познания и неспособная преодолеть их.
В оставшейся части главы мы сконструируем основание для такой феноменологии, которая сможет ответить на вопросы об инаковости тела и предшествовании мира. Наш метод заключается не в том, чтобы шаг за шагом опровергать критику Мейясу, что вряд ли имело бы ценность, но в том, чтобы обнаружить зачатки новой феноменологии, чувствительной к вещи, пребывающей вне опыта и поэтому конститутивной для ужаса, переживаемого изнутри опыта. Мы сделаем это, вновь обратившись к фигуре, чье отсутствие в мышлении Мейясу очевидно, — к Мерло-Понти. Мы переместимся за пределы проживаемого тела, даже когда это тело конституировано запредельной опыту временностью, как мы это видели в предыдущей главе. Затем мы устремимся к онтологии, которая отмечает разрыв Мерло-Понти с наследием гуссерлевской трансцендентальной феноменологии и направляет его движение в сторону археологии, геологии и психоанализа. Для онтологии Мерло-Понти именем этого разрыва становится плоть.