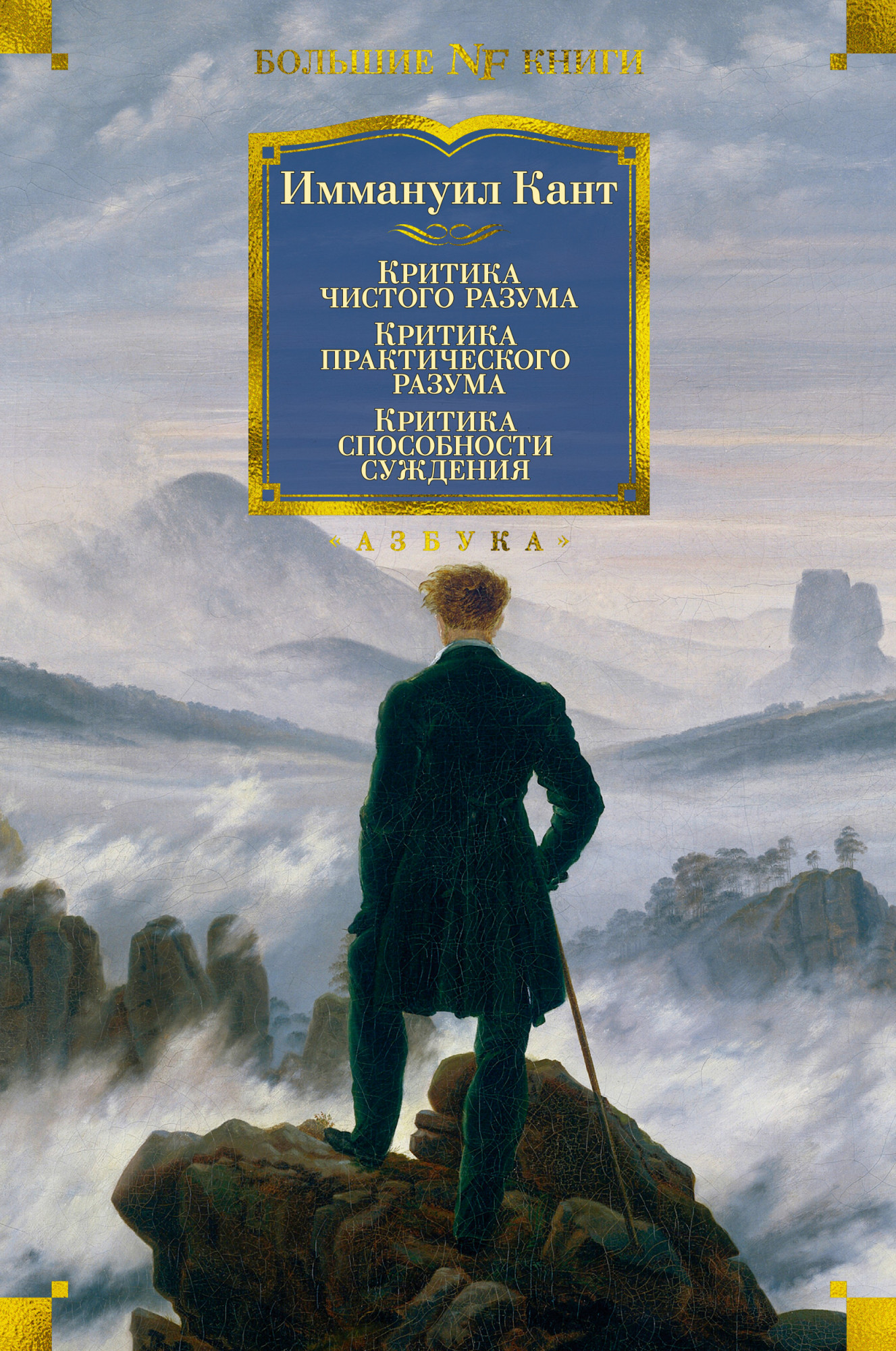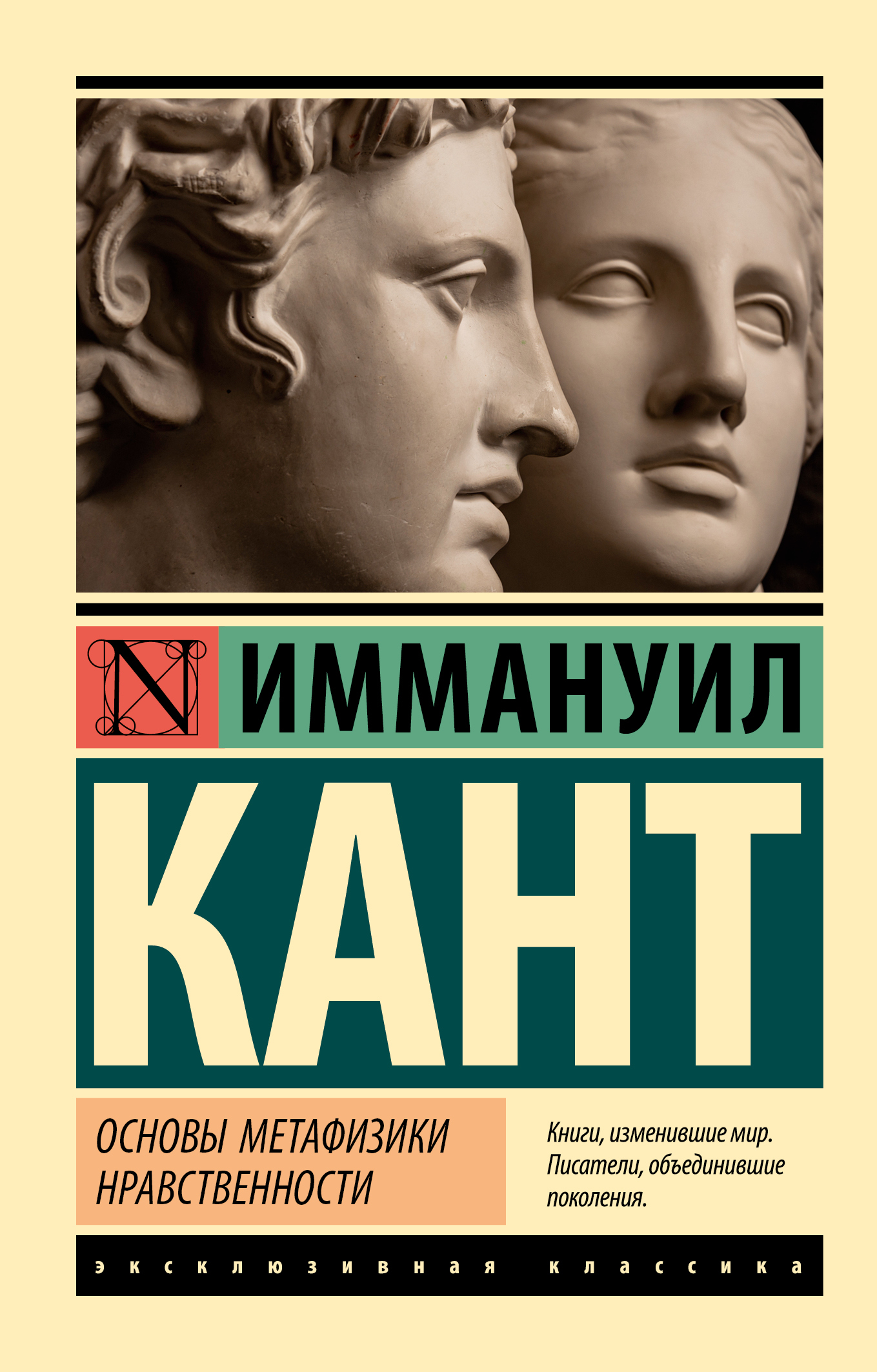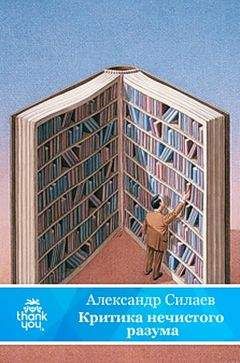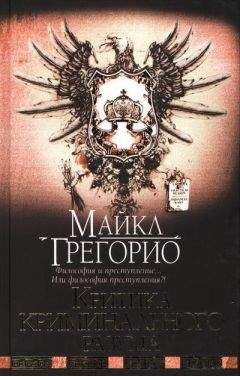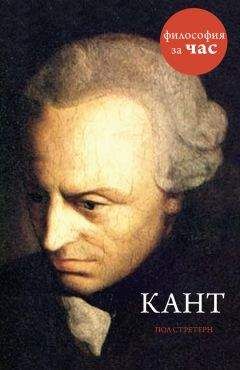и в то же время хотим показать, что основание способности животных искусно действовать, называемое инстинктом, в действительности отличается по своей специфике от разума, хотя сходно по своему отношению к действию (постройки бобров в сравнении с постройками людей). Однако, исходя из того, что человек пользуется для своих построек разумом, я не могу заключить, что у бобра также должен быть разум, и назвать это умозаключением по аналогии. Тем не менее из подобия действий животных (основание к которым мы воспринять непосредственно не можем) действиям человека (которые мы непосредственно сознаем) мы можем по аналогии вывести совершенно верное заключение, что животные также действуют по представлениям (а не суть, как полагает Картезий, машины) и, несмотря на их специфическое различие, по своему роду (в качестве живых существ) не отличаются от людей. Принцип, который дает право делать такое заключение, состоит в одинаковости основания относить животных по упомянутому определению к одному роду с человеком как человеком в той мере, в какой мы сравниваем их друг с другом по их внешним действиям. Это par ratio (равное основание). Так же, сравнивая целесообразные продукты высшей причины мира с произведениями искусства человека, я могу мыслить ее каузальность по аналогии с рассудком, но не могу заключать по аналогии к этим его свойствам; ибо здесь именно и отсутствует принцип возможности подобного заключения, т. е. paritas rationis (равенство основания), которая позволила бы отнести высшее существо и человека к одному роду (по каузальности того и другого). Каузальность существ мира, всегда чувственно обусловленная (в том числе и каузальность посредством рассудка), не может быть перенесена на существо, у которого нет с существами мира другого общего родового понятия, кроме понятия вещи вообще.
Это ни в коей мере не умаляет представление об отношении этого существа к миру в том, что касается теоретических и практических выводов из данного понятия. Но пытаться исследовать, что оно есть само по себе, – столь же бессмысленное, сколь тщетное любопытство.
Я расширяю здесь, как мне представляется, с достаточным основанием понятие факта, выводя его за пределы обычного значения этого слова. Ведь нет необходимости, даже нецелесообразно, ограничивать его действительным опытом, если речь идет об отношении вещей к нашим познавательным способностям, так как одной возможности опыта достаточно, чтобы говорить о них только как о предметах определенного способа познания.
Однако, исходя из этого, предметы веры не суть догматы веры, если под ними понимать такие предметы веры, исповедание которых (внутреннее или внешнее) может быть вменено в обязанность, следовательно, они в естественной теологии не содержатся. Так как в качестве предметов веры они не могут (подобно фактам) основываться на теоретических доказательствах, то здесь возможна только свободная убежденность, и лишь в качестве таковой она совместима с моральностью субъекта.
Конечная цель, содействовать которой повелевает нам моральный закон, не есть основание долга; оно заключено в моральном законе, который как формальный практический принцип руководит нами категорически, невзирая на объекты способности желания (на материю воления), следовательно, на какую бы то ни было цель. Это формальное свойство моих поступков (подчинение их принципу общезначимости), в чем только и заключается их внутренняя моральная ценность, находится полностью в моей власти; я могу абстрагироваться от возможности или неосуществимости целей, способствовать достижению которых мне надлежит соответственно этому закону (поскольку в них заключена только внешняя цель моих поступков) как от того, что никогда не может быть вполне в моей власти, чтобы сосредоточить мое внимание на том, что зависит от меня. Но стремление способствовать конечной цели всех разумных существ (счастью, насколько оно может быть совместимо с долгом) все-таки возлагается на нас законом долга. Однако спекулятивный разум совсем не усматривает осуществимость этой цели (ни со стороны наших собственных физических возможностей, ни со стороны природы); он скорее должен считать, насколько мы можем судить разумно, результат нашего благонравного поведения, по таким причинам, связанный только с природой (в нас и вне нас) без признания Бога и бессмертия, необоснованным и пустым, хотя и вызванным благими намерениями ожиданием, и, если бы он мог быть полностью уверен в этих суждениях, он рассматривал бы моральный закон как иллюзию нашего разума в его практическом применении. Однако поскольку спекулятивный разум полностью убежден, что этого никогда не может быть и что идеи, предмет которых находится за пределами природы, можно мыслить без противоречия, то для своего собственного практического закона и для возлагаемой им на нас задачи, следовательно, в моральном отношении, он должен признать, чтобы не впасть в противоречие с самим собой, эти идеи реальными.
Вера – это доверие обетованию морального закона, но не такому, которое в нем содержится, а такому, которое я в него привношу на достаточном в моральном отношении основании. Ибо конечная цель не может быть велением закона разума без того, чтобы он, хотя бы без уверенности, одновременно не обещал ее достижимость и тем самым не оправдывал нашу убежденность в единственных условиях, при которых наш разум только и может ее мыслить. Это выражает само слово fides; сомнение может вызвать только то, как это выражение и эта особая идея попали в моральную философию, поскольку впервые они были введены христианством и применение их может, пожалуй, показаться льстивым подражанием его языку. Однако это не единственный случай такого рода, ибо эта удивительная религия в величайшей простоте своего изложения обогатила философию значительно более определенными и чистыми понятиями нравственности, чем те, которые философия до того сумела создать; но когда они появились, разум свободно признал их и принял в качестве таких, к которым он и сам мог и должен был прийти, которые и сам мог и должен был ввести.
Восхищение красотой и растроганность, вызываемые многообразными целями природы, которые способна ощущать душа склонного к размышлению человека еще до ясного представления о разумном творце мира, заключают в себе нечто сходное с религиозным чувством. Поэтому они сначала как будто действуют на моральное чувство (благодарности и почтения к неизвестной нам причине) посредством суждения, аналогичного по своему характеру моральному суждению, и, следовательно, действуют на нашу душу, возбуждая моральные идеи, когда внушают нам восхищение, связанное со значительно более глубоким интересом, чем тот, который может вызвать чисто теоретическое рассмотрение.