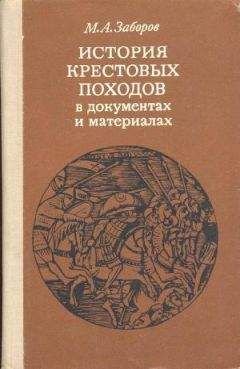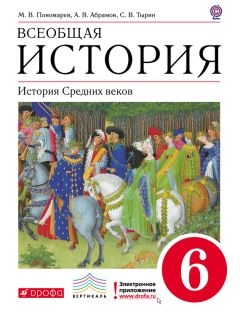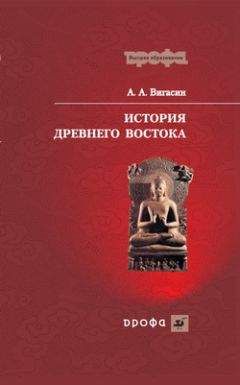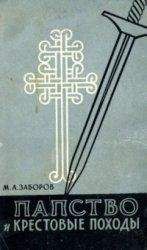Тогда, приведя в боевой порядок и корабли, и самих себя, мы двинулись вперед к некоему каменному мосту, отстоящему от упомянутого ранее места на одну с лишком лигу. Мост же этот был крепче Малого моста Парижского и до того был узок, что три всадника [по нему] едва могли пройти бок о бок, а подходящего брода мы не могли найти иначе, как на расстоянии трех лиг. Впрочем, если бы мы так далеко отошли от своего флота, то могли бы подвергнуться большой опасности и понести урон. Когда мы достигли самого моста, то долготерпением божьим, без всякого противодействия перешли по нему и, идя вперед, раскинули наши палатки между дворцом императора, который называется Влахернским, и дворцом Боэмунда, и настолько приблизились к Влахернскому [дворцу], что стрелы наши падали на дворец императора и чрез окна [попадали] внутрь него, а греческие стрелы летели над нашими палатками. Содеяв это, мы огородили наше войско большими кольями. Потом мы пододвинули и поставили у стен камнеметательные орудия. Дож же венецианский соорудил на [каждом из] всех кораблей высочайший помост из рей, вышиною в сто шагов, и по каждому помосту могли спускаться четыре вооруженных рыцаря. Сверх того, на одном уссарии[596] действовал также свой магнеллум.
Пока происходило все это, греки пешие и конные, совершали вылазки против нас. Однако они всегда терпели больший урон, чем мы. Однажды множество их воинов, выйдя толпою из неких ворот, которые расположены были с правой стороны, выступили вперед и стали вызывать нас к сражению. Однако наши напали на них с такой силой и отвагой, храбро отогнав их назад, что многие из них, толкая друг друга, валились в ров; среди некоторых иных оказался убитым сын герцога Диррахия, который слыл у константинопольцев благороднейшим и прекраснейшим. На следующий день из Влахернских ворот выступила когорта воинов города, — в той стороне, которая была лучше всего укреплена нашими воинскими орудиями. Однако могучим ударом они были божьей подмогой с позором отброшены назад [в город]. Тогда же был захвачен некий сильный муж[597], наиболее опытный из всех горожан в военном деле и советник императора. По прошествии Меркуриева дня отдано было распоряжение, чтобы на завтра[598] произвести приступ города; дожу венецианскому — напасть с моря, а маркизу[599] и графу Фландрскому — с суши. Я же и Матье Монморанси с маршалом Шампани, а также А. де С. Суроне[600], пока будет производиться приступ, должны будем охранять войско снаружи от укреплений и близ лагеря. Так мы и сделали.
Когда все было приготовлено, в установленное время дож и венецианцы с некоторыми из наших, кто особенно настаивал на атаке с моря, придвинули корабли близко к стенам, приставили к ним лестницы и, двинувшись на приступ с великими искусством, ворвались в город; 25 триб ратников захватили [в городе] немало сверх всякой меры и пожгли [там]. Наши также, произведя приступ с суши и приставив подобным же образом лестницы к стенам, водрузили на стенах свои стяги и знамена. Миниторы же, сделав подкоп стены снизу, разрушили одну башню. Тогда император, стесненный пожаром города и нашими хитростями, неожиданными и [наносимыми] отовсюду ударами, собрал немалые турмы[601] воинов к единственным воротам, которые давали выход в поле, чтобы окружить наших и разбить их. Мы также изготовились к бою; граф Фландрский — со своими, и я тоже — со своими, каждый, конечно, находясь на своем месте начеку; в боевом порядке подвигаясь вперед на конях, мы, будучи вовлечены в бой, нам противный, приблизились к неприятелю настолько, что их лучники и арбалетчики могли попадать в наших, а наши в их [воинов]. Когда они увидели нас воодушевленными и неуклонно выступающими вперед в боевом строю и [когда] убедились, что не могут легко одолеть нас в сражении, то, сильно устрашенные и растерянные, отступили, не осмелившись вступить с нами в битву. И знайте, что нас в войске было не больше двухсот рыцарей и столько же прочих конных воинов, а пехотинцев у нас было не более двух тысяч; ибо большая часть оставалась на месте для охраны орудий. Мы же, видя, как они бегут, не хотели их преследовать, дабы их хитростями не был причинен урон нашему войску, и военным машинам, и башням, которые захватили венецианцы. Возвратившись в свой дворец, император заявил, что даст нам бой завтра, но среди ночи тайно бежал. Однако в день Юпитера, как он и обещал, мы принуждены были сражаться. А назавтра с помощью божьей город был нам сдан, и таким образом истекли полных 8 дней с начала осады города. Тогда же император Корисак[602] и императрица, его супруга, сестра короля Венгрии, которые долго находились в страхе и держались в заточении, изъявляя нам всячески свое благоволение, сообщили, что божьей милостью и с нашей помощью они освобождены из заключения и что им возвращены знаки императорского достоинства и что они просят нас завтра пожаловать во дворец вместе с их давно ожидаемым сыном. И мы так и сделали и откушали во дворце с великим ликованием и необыкновенными почестями.
Особенно я хочу, чтобы вы знали, что Р. де Парке[603] и Р. де Монмирайль[604], и А. де Бов[605], стремившиеся идти к Иерусалиму, Ю. де Бов[606], и Симон де Монфор, и Р. Недобрый Сосед[607], и аббат де Во[608], учинившие большое несогласие в войске участников похода, устремились к королю венгерскому; они оставили наше войско и покинули нас при смертельно тяжких обстоятельствах. Зато всячески восхвалим венецианского дожа, мужа благоразумнейшего и умудренного в трудных советах. Было содеяно, конечно, и многое иное, лучшее и славнейшее сказанного. Но я постараюсь только удовлетворить вас объяснением того, почему главным образом мы стремились прибыть к царственному городу: разумеется, потому, что выполняли дело Спасителя, [такое], чтобы восточная церковь, столицей коей был Константинополь, с императором и всею своею империею признала бы себя дочерью своего главы — римского первосвященника и преданно повиновалась бы ему во всем с надлежащим смирением. Даже сам ее патриарх[609] одобрял это дело; он согласился принять паллиум — знак своего достоинства — от верховного первосвященника, имея в виду добиваться затем Римского престола, в чем сам, вместе с императором, принес клятвенное заверение. К этому наш император клятвою обязался нам честно и сполна выполнить все, что было обещано: переправиться вместе с нашими к середине текущего марта, имея с собою 10 000 ратников, доставлять в течение года продовольствие всему воинству господнему и продлить на год наш договор с венецианцами. Послав также со своей и с нашей стороны послов к вавилонскому султану[610] — обладателю Святой земли, он потребовал, чтобы тот, выказывая уважение к народу христианскому пред лицом своего неверного народа, ожидал бы благодати и милосердия божия к истреблению неверия.
Итак, мы, соблазненные такими выгодами и задержанные священною надеждою будущих благ, решили зазимовать у вышеописанного города, и об этом мы хотим уведомить наших братьев, которые ожидают в заморских странах нашего прибытия, чтобы они, услышавши радостную молву о наших удачах, участниками каковых мы и их считаем, чтобы они, подкрепленные святой надеждой, ожидали бы будущего с большей твердостью.
Patrologiae cursus completus accurante J.-P. Migne, t. 213, Paris, 1855, col. 1041—1044.
VIII. Крестоносцы в Константинополе (1203)
Из «Истории» Никиты Хониата
...Благодаря необычайно счастливому плаванию (потому что на всем пути в море дули тихие и самые благоприятные для их кораблей ветры) латиняне появились у Константинополя[611], прежде чем в городе узнали об их приближении. Они подошли к Халкедону, а вскоре затем подступили к Перее[612], лежащей на противоположном, восточном, берегу залива чуть ниже Диплокиона[613] (военные корабли — на веслах, грузовые — на парусах) и встали там на якорь на таком расстоянии от суши, чтобы быть вне пределов досягаемости стрел. Дромоны[614] же причалили к Скутари...[615].
...Спустя несколько дней[616] прибыли во дворец военачальники латиняне, и не только они, но и знатные родом среди них. Принесли лавки, и все латиняне сели подле императоров, слушая, как их называют благодетелями и спасителями, охотно принимая и любое другое приятное обращение, так как они[617] наказали властолюбивого Алексея III за его ребячество и помогли бедствующим императорам. Но не только это: они пользовались всяческим расположением, им были выказаны обходительность, забота и ласка; а Исаак, если что и утаилось в императорской сокровищнице и что сам он приобрел, заключив императрицу Ефросинью[618] и ее родственников, все это он обеими руками вытаскивал и щедро преподносил латинянам. Но так как и это казалось получавшим каплей (ибо нет другого народа более корыстолюбивого, жадного до пиров и расточительного, чем это племя) и так как они всегда жаждали потоков Тирренского моря, император нечестиво схватился за неприкосновенное, и с этих пор, я думаю, дела ромеев вконец расстроились и пришли в упадок...