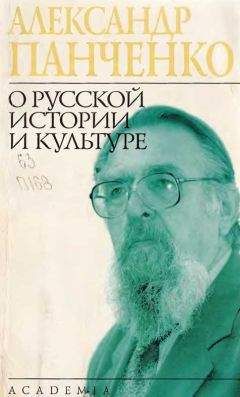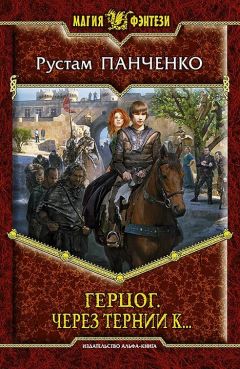Традиция была настолько сильна, что подчиняла себе и культуру верхов, включая «просвещенный абсолютизм». Как известно, Отрепьевы после Смуты по высочайшему разрешению взяли другую фамилию. Даже в 1810 г. некий полковник Пугачевский ходатайствовал об аналогичном позволении [10]. Екатерина II, дабы стереть память о пугачевщине, из Яика сделала Урал. Кажется, это единственный за всю русскую историю случай переименования реки. Просвещенная императрица рассуждала так же, как ее соперник–казак.
В оренбургских степях была Москва, но не было Петербурга. Тем самым Пугачев продемонстрировал свою ретроспективную ориентацию на «святорусскую старину». Поэтому нельзя было сопоставлять «золотую избу» с дворцами Петербурга или Царского Села. Образец для подражания следовало искать в Москве, и тогда не было бы почвы для анекдота. «Золотая изба» — это миниатюрное подобие, «микрокосм» выстроенного еще царем Алексеем Михайловичем деревянного Коломенского дворца, «восьмого чуда света», как его назвал Симеон Полоцкий. Обшитый листовым золотом, Коломенский дворец, постепенно ветшая, простоял до 1767 г., так что люди пугачевского возраста еще видели его своими глазами.
Другой анекдот таков: «Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: „Как я давно не сидел на престоле!”. В мужицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище» [Даль, 1974, 222–223]. Этот эпизод рассказывали разные авторы, относя его к разным городам. Трудно проверить, есть ли здесь вымысел и сколько его. Но если анекдот отражает реальное поведение Пугачева, то почему аудитория не усматривала здесь кощунства?
Может быть, и в данном случае Пугачев не озорничал, а выполнял предписания ориентированного на старину стереотипа, применялся к народной «культурной памяти» о монарших престолах. Еще в домонгольское время в патрональных храмах княжеств устраивали престол князя (не в алтаре, разумеется), и князь именно «седе» на нем. Позднее в святительских соборах наряду со святительским местом бывало и «царское место» [см. Лихачев, 1978, 227]. В XVII в. вплоть до Петра I москвичам несколько раз в год доводилось лицезреть передвижные «места», в которых государь пребывал на действах новолетия и Страшного суда, в день Богоявления на иордани. «Царское место… было в виде небольшого круглого храма с пятью главами, сделанными из слюды и украшенными золочеными крестами. Этот пятиглавый верх утвержден был на пяти точеных столбах, расписанных по золоту виноградными листьями; капители и базы у столбов были также позолочены и посеребрены» [Забелин, 396].
Насмешки вызывало и нежелание Пугачева «оказать свою руку», истолкованное как уловка неграмотного простолюдина. Пусть он был действительно неграмотным или едва грамотным (сохранившиеся его автографы имитация «немецкой» скорописи, мистификация «императора», который будто бы владел европейскими языками) [Овчинников, 1960, 56–59]. Но разве трудно выучиться подписи «Петр III» или «Петр Федорович»? Если Пугачев желал соблюсти сценарий поведения «царя–батюшки», он и не должен был ей выучиваться. Автографов не сохранилось ни от одного из первых трех венчанных царей — Ивана Грозного, Федора, Бориса Годунова. Иван Грозный был замечательно образованным писателем, но, по–видимому, диктовал свои сочинения. Что касается Бориса Годунова, то в бытность придворным он пользовался пером и чернилами, а на троне также «не оказывал руку» [Скрынников, 1978, 11]. Это был культурный запрет, подобный сказочным «царским запретам», и при Пугачеве он еще сохранялся в крестьянском сознании. Первым из венценосцев его нарушил Лжедмитрий, и с его легкой руки на московском престоле появились «люди пера» (царь Алексей Михайлович оставил не только эпистолярную прозу; ему принадлежит адресованная Никону записка о последних часах патриарха Иосифа — талантливая заготовка для предполагаемого его Жития [Письма…, 101 и след.], царь Алексей был одним из авторов замечательного «Урядника сокольничья пути», а сын его Федор сочинял силлабические вирши). Но Лжедмитрий старался воплотить не отечественный, а западный, ренессансный и маньеристский идеал государя — демиурга, которому суждено повернуть «шарнир времени». Считалось, что он должен сочетать качества воина и писателя. Думали, что это будет непременно «человек пера», homo scriptor [см. Otwinowska, 199–201].
В XVII в. документы то и дело фиксируют непочтительное отношение к царю. Типичный диалог состоялся на масленице 1625 г. в деревне Ромоданове Пронского уезда. Один крестьянин «на беседе» провозгласил здравицу монарху — впрочем, весьма сомнительную: «Да<й> <О>споди де, государь здоров был на многия лет, дал де Бог смирна». Другой вольнодумно возразил: «Да<й> <О>споди де нам десять царей, еще де бы того лучше было» [Новомбергский, 43–44]. На этом фоне вполне естественными выглядят тираноборческие инвективы второй половины столетия, включая знаменитую фразу из пятой челобитной Аввакума: «Господин убо есть над всеми царь, раб же со всеми есть Божий» [Аввакум, 196] (эта фраза принадлежит соавтору Аввакума — дьякону Федору) [Понырко, 1976, 362–365]. Рука об руку с такими инвективами шло самозванство, которое стало чуть ли не бытовым явлением. Правительство панически его боялось и видело поползновения к нему в самых невинных речах. Дело доходило до прямых курьезов.
В феврале 1629 г. курскому воеводе стольнику Н. С. Собакину был подан донос на тюремного сторожа Сеньку, который будто бы говорил «про государя неподобное слово»: «В меня… такова ж борода, что у государя» [Понырко, 1976, 49–50]. Розыск показал, что навет облыжный. Сенька поспорил с курским дворянином Серым Сергеевым, и тот пригрозил: «Мужик… про что меня лаешь, бороду… тебе за то выдеру!» Ответ был таким: «Не дери… моей бороды, мужик… я государев и борода… у меня государева». Иначе говоря, государственный человек Сенька не сравнивал свою бороду с царевой, а верноподданнически напомнил, что она тоже принадлежит царю. Поэтому пострадал доносчик: по присланному из Москвы именному указу его велено было «бить батоги, разнастав, нещадно, потому что он сказывал, затеяв, наше (царское. — А. П.) дело; а при ком то дело деялось, и они сказали не против его извета».
Однако случалось, что сравнение с монархом действительно имело место, и тогда следовало неотвратимое наказание. В том же Курске четырьмя годами ранее стрелец Томилко Белый завел такой разговор: «Ездил де он в Курский уезд, и взял у сына боярскаго лошадь, и ехал на ней, что великий князь (курсив мой. — А. П.)». Стрелец не запирался и повинился крамоле: «Такое слово в караульной избе молвил спроста… что ехал он в санях под полостью, что великий князь». Государь указал его, «разнастав, бить батоги нещадно, и посадить в тюрьму на неделю, чтоб впредь неповадно было таких непригожих слов говорить» [Новомбергский, 15–16].
И курьезная, и серьезная «расцаревщина» (как тогда выражались) — это симптом социальной активности. «Тишайшим» царям с трудом удавалось поддерживать «тишину и покой». Только в середине столетия у верхов возникла иллюзия, что страна вступила в период стабилизации. Казалось, Россия вновь стала «святой Русью», последним оплотом вселенского Православия. Но скоро, очень скоро выяснилось, что единство нации — не более чем фикция.
Переломным был 1652 год — год «апофеоза Православия» [см. Зеньковский, 179–184]. Он начался пышными церковными торжествами, продолжавшимися весну и лето. 20 марта из Чудова монастыря в Успенский собор было перенесено тело патриарха Гермогена, который в 1612 г. погиб мученической смертью в захваченной интервентами Москве. Тогда же Никон, еще не патриарх, еще новгородский владыка, с большой свитой отправился на Соловки за мощами митрополита всея Руси Филиппа Колычева, некогда задушенного Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. В главном храме Соловецкой обители Никон возложил на гроб страдальца государеву грамоту. В ней царь Алексей молил Филиппа «разрешити прегрешения прадеда нашего» (для придания «истинности» и легитимного блеска своему недавнему самодержавию Романовы постоянно подчеркивали, что Алексей приходился внучатым племянником царю Федору Ивановичу, хотя это было родство по женской линии, по первой жене Грозного — Анастасии). Царь «преклонял свой сан» перед Церковью, публично приносил ей повинную.
Пока Никон был в отсутствии, Москва торжественно упокоила в Успенском соборе еще одного архипастыря — Иова, который был лишен престола и сослан в Старицу Лжедмитрием. Через несколько дней после этой церемонии умер престарелый патриарх Иосиф, так что 9 июля, когда столица крестным ходом и колокольным звоном встречала Никона, она встречала нового главу русской Церкви. Две недели спустя освященный собор выбрал его на патриаршество. Необычным и драматическим было это избрание. Никон несколько раз наотрез отказывался от «великого архиепископства». Так предписывал этикет, но он не предписывал добиваться того, чтобы участники собора во главе с самим царем падали перед новым архипастырем на колени и «простирались ниц». После этой театральной сцены Никон уступил — при условии, что царь, бояре и архиереи «будут слушаться его во всем», признают его беспрекословную власть в «духовных делах». Царь дал согласие, и Никон, дабы придать ему законную силу, ввел упоминание о царском обете в печатный Служебник 1655 г. На несколько лет в Москве установилось двоевластие — царя и «великого государя» Никона (этот титул он присвоил себе в 1653 г.). Позднее он уподоблял это кратковременное двоевластие двум мечам, духовному и мирскому, и двум светилам: «Солнце нам показа власть архиерейскую, месяц же показа власть царскую, ибо солнце вящи светит во дни, яко архиерей душам, меньшее же светило в нощи, еже есть телу. Яко же месяц емлет свет от солнца, и егда дале от него отступает, тем совершеннейши свет имать, такожде и царь: поемлет посвящение, помазание и венчание от архиерея» [цит. по: Каптерев, т. 2, 129].