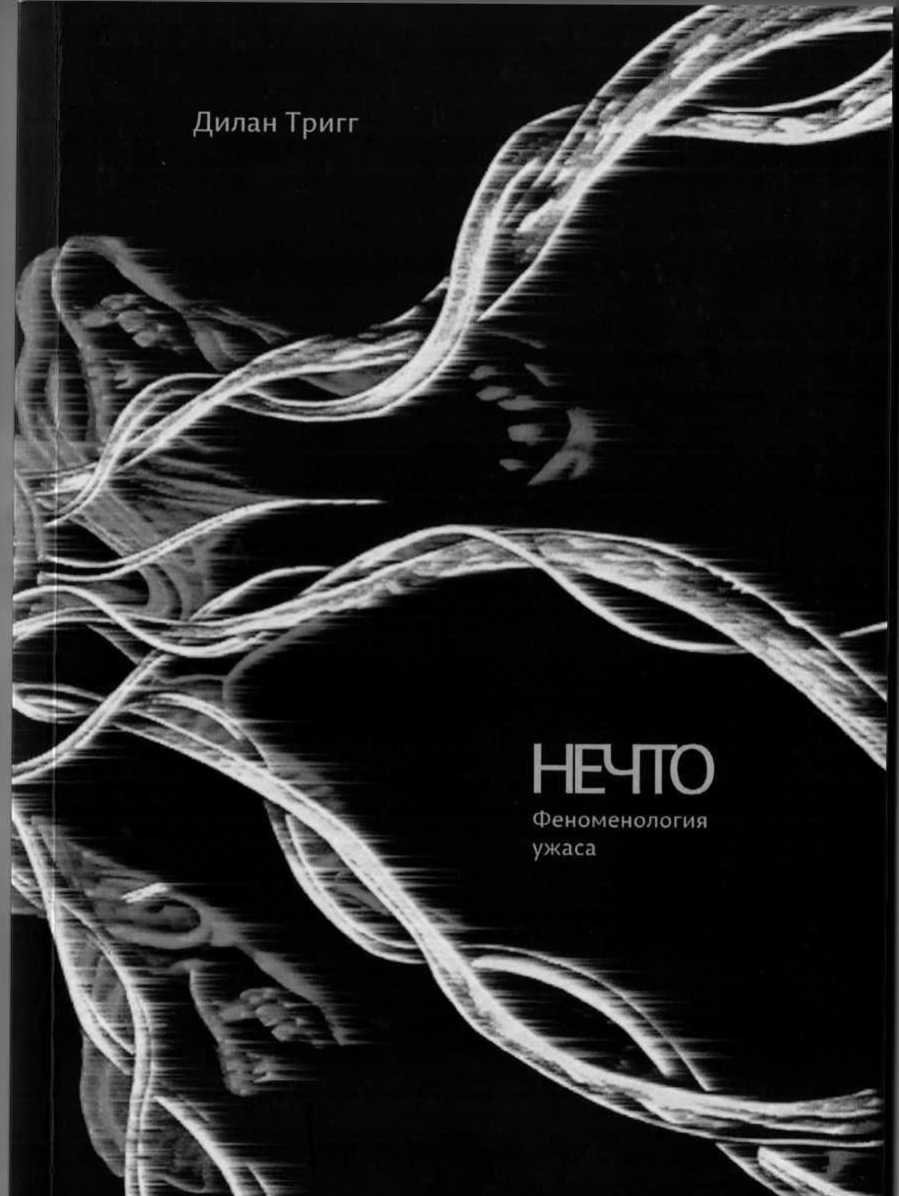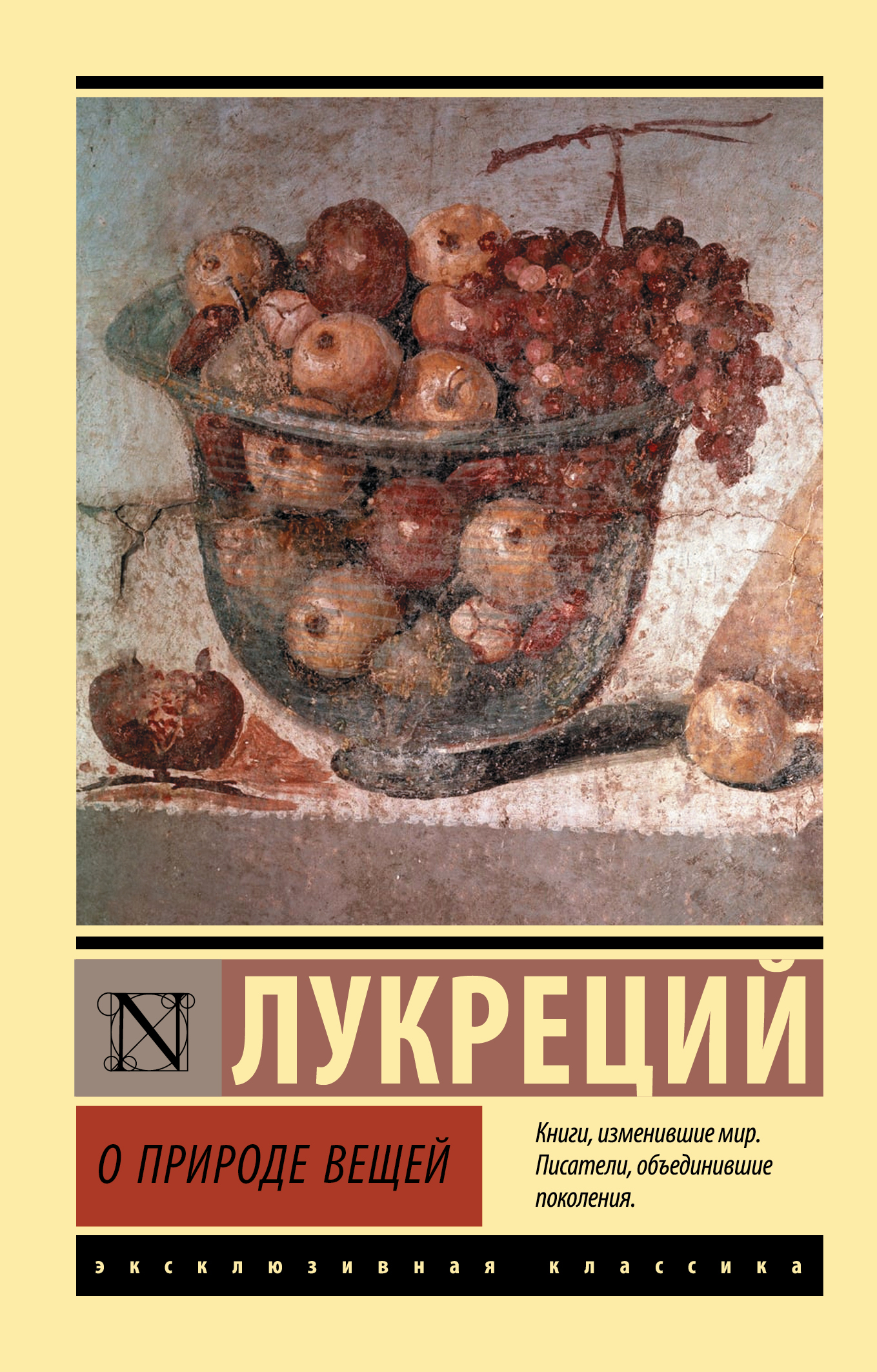настоящем, не будучи при этом полностью интегрированным субъектом или присутствующим в нем. Этот предшествующий исток отмечает для субъекта точку диссонанса, непостижимую массу материальности, которая становится местом параллельной истории.
Мерло-Понти рассматривает это иное прошлое в перспективе животного. Именно взяв отношения человеческого и животного, мы сможем приблизиться к пониманию отношения человеческого и чужого. Мерло-Понти приступает к изучению истока субъекта в терминах «метаморфоза», нежели «начала с нуля» (Merleau-Ponty 2003, 268). В противовес идее о том, что жизнь развивается как постепенный процесс цефализации [12] и высвобождения из царства природы, Мерло-Понти утверждает, что тело — это «рефлексия в фигуральной форме» (268). Иными словами, дело не в том, что человеческое существо возникает в какой-то точке глубокого прошлого и продолжает затем рациональное развертывание корпореальной истории. Скорее, сама эта история сосуществует вместе с субъектом в настоящем времени, формируя двойника, который и отражает, и искажает возникновение человеческого существования.
Поэтому, когда Мерло-Понти рассуждает об отношении человеческого и животного, он делает это в терминах «латерального» отношения [13], «не упраздняющего родства» (268). Мы сталкиваемся с таким родством, которое предполагает не просто возможность жизни человека и животного бок о бок друг с другом, но также жизни внутри друг в друга. В любом случае мы обнаруживаем развитие жизни предицированным онтологической преемственностью между разными формами жизни, или, как пишет Мерло-Понти, «прежде чем быть разумом, человечество — это иная телесность» (269).
Более того, подобное родство, как продолжает он, является «странным», потому что в нем мы сталкиваемся со зримостью незримого, то есть с ископаемыми останками такой жизни, которая находится за пределами опыта, но тем не менее конститутивна для жизни вообще. В той же мере, в какой животное предваряет человеческое, человеческое осуществляет животное. Как пишет Мерло-Понти, «существования животного и человеческого даны только вместе, в пределах единого Бытия, что можно было бы усмотреть уже в первом животном, будь там хоть кто-то, кто мог бы это узреть» (271).
Мерло-Понти заботит особая конфигурация человеческой жизни. До какой степени подобная артикуляция жизни носит собственно человеческий характер? С точки зрения такой феноменологии, которая выходит за пределы гуссерлианства и обращается к дочеловеческой сфере, предшествующей возникновению эго, подобное различение жизни теряет четкие очертания. Мерло-Понти задает принципиальный вопрос: «Жизнь и нежизнь отличаются только как химические соединения и отдельные элементы (chemistry of mass and individual chemistry): являются ли вирусы живыми или неживыми существами?» (269). Такой вопрос напрямую противоречит феноменологии, занимающейся человеческим опытом и только им. С точки зрения человеческого субъекта вирус или болезнь вторгаются в тело и воспринимаются как некая форма антижизни. Вирус считается чем-то парализующим жизнь, истощающим организм, поглощая ресурсы, от которых он зависит, чтобы самому утвердиться в мире. Но как, перефразируя Дэвида Кроненберга, вирус воспринимает нас? Сама взаимообратимость этих перспектив стирает границы между жизнью и нежизнью, маскируя эти феномены в обоих измерениях сразу.
Мерло-Понти называет подобную конвергенцию разных форм жизни Ineinander, или переплетением (271). Таким образом, он вписывает «странное родство» между животным и человеческим в саму эволюцию, из которой можно вывести «иные телесности» (271). Такая констелляция дивергентных форм жизни, населяющих одно и то же тело, носит как пространственный, так и временной характер. «Метаморфоз», о котором он говорит, одновременно и разворачивается во времени, и сворачивается в собственной материальности. Так, Мерло-Понти упоминает «строгую одновременность» тел и указывает на «натальное прошлое», которое в то же самое время является местом «филогенетической» истории.
Предыстория субъекта — это также и предыстория инаковости субъекта, чужой регион, где сосуществуют глубокое прошлое и далекое будущее. Подобное представление о переплетении человеческого и животного не предлагает нам некий альянс, позволяющий человеческому субъекту возможность нарциссически рассматривать собственное отражение, спроецированное на животное. Скорее Мерло-Понти указывает нам на подлинную инаковость, которая просвечивает в человеческом, и на «странные предвосхищения или карикатуры человеческого в животном» (214). Этот взгляд в глубины предыстории выявляет время, предшествующее разделению животного и человеческого. Это примордиальное видение не только погружено в бездну времени, но и сохраняется в артикуляции тела, которое, как мы увидим в следующих главах, поддерживает странное родство, связывающее человека с его нечеловеческим другим.
Философия природы Мерло-Понти является, таким образом, феноменологией субъекта как чужого. В этом случае мы сталкиваемся с субъективностью, которая никогда не интегрируется, но, наоборот, указывает на избыток, на что-то извне времени и сопротивляющееся описываемому опыту. Субъект становится местом иной агентности, которая сопротивляется познанию и указывает на трещину, проходящую не по одному только субъекту, но и по всему миру. В таком свете феноменология достигает предела и, следовательно, должна теперь быть понята в качестве непрямой онтологии, сохраняющей человеческий опыт только как симптом.
Рассуждать в терминах симптомов значит направить феноменологию к психоанализу. Этот шаг оправдан тем, что феноменология сама по себе, с возложенным на нее бременем описывать содержание проживаемого опыта, должна заговорить на другом языке, чтобы обратиться к изнанке опыта. Эстетический образ — и сфера воображаемого в целом — позволяют нам подступиться к этой изнанке, придавая неименуемому бесформенному нечто различимые очертания. В этом отношении эстетическая манифестация такого ужаса, который лежит по ту сторону опыта, оказывается в структурном отношении параллельной симптому, заявляющему о себе посредством тела, что указывает на след реальности, к которой можно подступиться только косвенно. Как эстетический образ, так и бессознательный симптом оказываются доступны для герменевтического анализа, где аналогом инаковости субъективности выступает опыт ужаса. В следующем разделе мы увидим, как эта непрямая феноменология ужаса разыгрывается кинематографически.
Помимо прочего, понятие чужой субъективности находит свое выражение в научно-фантастическом фильме ужасов «Куотермасс и колодец», снятом Роем Уордом Бейкером в 1967 году. Этот фильм важен, поскольку выражает парадоксы, связанные с чужой субъективностью и феноменологией чужого вообще. Прежде всего, в фильме задействованы некоторые концептуальные и аффективные импликации, совпадающие с невозможностью интегрировать в настоящее предшествование прошлого, что проявляется в зловещем ужасе, свидетельствующем о пропитанной чужим материальности.
Фильм повествует об обнаружении древнего космического корабля, погребенного под улицами Лондона. Главный герой фильма, профессор Бернард Куотермасс, выясняет, что этот космический корабль тайно повлиял на зарождение и развитие человеческой жизни на Земле. Это влияние осуществлялось доисторической саранчой, чьи застывшие во времени тела были найдены в саркофаге корабля. Как нам сообщают, саранча прибыла на Землю пять миллионов лет назад, когда их гибнущая планета, Марс, оказалась непригодной для органической жизни. Нуждаясь в новой колонии, марсиане отправились на нашу планету и захоронили себя в стратегически важных местах так, чтобы однажды воскреснуть в более разумной форме, или,