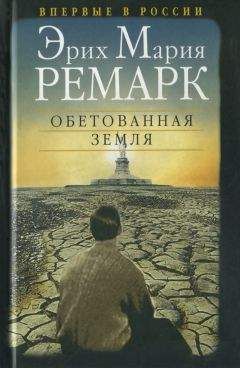Я снова вспомнил о Хирше. Я был у него сегодня после обеда.
— Тебе нужна женщина, — говорил он. — И поскорее! Ты слишком долго жил один. Лучше всего найди себе эмигрантку. Она будет понимать тебя. Ты сможешь говорить с ней. По-немецки и по-французски.
И даже по-английски. Одиночество с его непомерной гордыней — страшная болезнь. Мы с тобой от нее достаточно настрадались.
— А американку?
— Пока не надо. Через несколько лет — может быть. А то наберешься новых комплексов — в придачу к своим собственным.
После пастромы я заказал шоколадное мороженое. В магазин заглянула однополая парочка с пуделем абрикосового цвета. Они купили пачку сигарет и упаковку с замороженным тортом. «Странно, — подумал я. — Все думают, будто я тут же наброшусь на женщин, а они меня вовсе не привлекают. Непривычно яркий свет улиц возбуждает меня гораздо больше.
Я медленно побрел назад в гостиницу.
— Никого не нашел? — спросил Мойков.
— А я и не искал.
— Тем лучше. Можно сыграть партию-другую в шахматы. Или вы устали?
Я покачал головой:
— На свободе так быстро не устанешь.
— Скорее наоборот, — возразил Мойков. — Большинство эмигрантов, приехав сюда, просто падают от усталости. Спят целыми сутками. Я думаю, долгожданная безопасность окончательно лишает их сил. У вас не так?
— Нет. Во всяком случае, я ничего такого не чувствую.
— Значит, еще почувствуете. Это со всеми бывает.
— Ладно.
Мойков достал свои шахматы.
— Лахман уже ушел? — спросил я.
— Пока нет. Он еще наверху, у своей возлюбленной.
— Думаете, сегодня ему повезет?
— С какой стати? Они отправятся ужинать вместе с ее мексиканцем, а Лахман за все заплатит. Он что, всегда таким был?
— Он уверяет, что нет. У него, мол, комплекс развился, с тех пор как он начал хромать.
Мойков кивнул.
— Может быть, — сказал он. — Да мне и безразлично. Вы просто не поверите, сколько всего тебе становится безразлично, когда состаришься.
— Вы здесь давно живете?
— Двадцать лет.
Через дверь промелькнула какая-то тень. Это была немного сутулящаяся молодая женщина с узким бледным лицом. У нее были серые глаза и темно-рыжие волосы, которые казались крашеными.
— Мария! — удивленно воскликнул Мойков и вскочил со стула. — Давно вы вернулись?
— Только вчера.
Я тоже встал. Мойков расцеловал девушку в щеки. Она была чуть ниже меня ростом. На ней был узкий, облегающий костюм. Говорила она торопливо, низким и довольно громким, слегка дребезжащим голосом. Меня она не замечала.
— Выпьете водки? — спросил Мойков. — Или виски?
— Водки. Но только налейте на один палец. Мне нужно идти. Я сегодня снимаюсь.
— Так поздно?
— У фотографа было время только поздно вечером. Платья и шляпы. Маленькие шляпки. Просто крошечные.
Только тут я заметил, что на ней тоже была шляпка, скорее, крохотная шапочка — маленькое черное пятнышко, косо сидевшее в волосах.
Мойков пошел за бутылкой.
— Вы не американец? — спросила девушка. С Мойковым она говорила по-французски.
— Нет, я немец.
— Ненавижу немцев.
— Я тоже, — отозвался я.
Она изумленно взглянула на меня.
— Я не то имела в виду, — скороговоркой выложила она. — Не вас лично.
— И я тоже.
— Поймите меня правильно: идет война.
— Да, — равнодушно ответил я. — Идет война. Мне это тоже известно.
Меня не впервые задирали из-за моей национальности. Я часто сталкивался с этим во Франции. Война — прекрасное время для простых обобщений.
Мойков вернулся с бутылкой и тремя маленькими рюмочками.
— Мне не надо, — сказал я.
— Вы обиделись? — спросила девушка.
— Нет. Просто не хочу водки. Надеюсь, вам это не помешает.
Мойков усмехнулся.
— Салют, Мария, — сказал он, поднимая рюмку.
— Напиток богов, — объявила девушка и одним махом осушила свою рюмку, резко откинув голову, как пони.
Мойков приподнял бутылку:
— Еще по одной? Рюмочки совсем маленькие.
— Grazie [8], Владимир. Достаточно. Мне пора. Au revoir! [9] — Она протянула руку и мне. — Au revoir, Monsieur [10]. — Ее рукопожатие оказалось неожиданно крепким.
— Au revoir, Madame [11].
Мойков, вышедший ее проводить, вернулся:
— Она тебя разозлила.
— Нет. Я сам дал ей повод. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт.
— Не обращай внимания. Она не хотела. Она говорит быстрее, чем думает. Поначалу она злит почти всех.
— В самом деле? — почему-то рассердился я. Не настолько уж она красива, чтобы так себя вести.
Мойков прищурился:
— Сегодня у нее плохой день, но чем лучше ее узнаёшь, тем больше начинаешь ценить.
— Она итальянка?
— Думаю, да. Ее зовут Мария Фиола. Смешанной крови, как здесь часто бывает; кажется, ее мать была еврейкой — то ли из России, то ли из Испании. Работает фотомоделью. Когда-то жила здесь.
— Как Лахман, — добавил я.
— Как Лахман, как Хирш, как Левенштайн и многие другие, — отозвался Мойков. — Это ведь дешевый международный караван-сарай. Одним классом повыше, чем национальные гетто, где эмигранты поселяются сразу после прибытия.
— Гетто? Здесь они тоже есть?
— Их так называют. Многие эмигранты предпочитают жить в обществе соотечественников. И только их дети когда-нибудь вылетают на свободу.
— А немецкое гетто тоже есть?
— Естественно. Форктаун. Квартал вдоль Восемьдесят шестой улицы, где кафе «Гинденбург».
— Что? «Гинденбург»? Во время войны?
Мойков кивнул:
— Заграничные немцы нередко хуже настоящих нацистов.
— А эмигранты?
— Некоторые тоже там живут.
Вниз по лестнице застучали шаги. Я узнал хромающую походку Лахмана. Тут же послышался красивый, низкий женский голос. Должно быть, это была та самая пуэрториканка. Она спускалась первой, совсем не заботясь о том, поспевает ли за ней Лахман. Я бы и не подумал, что у нее парализована нога. Говорила она только с мексиканцем, шедшим рядом с ней.
— Бедный Лахман, — сказал я, когда процессия удалилась.
— Бедный? — удивился Мойков. — Ну почему же? У него есть что-то, чего у него нет и что он хотел бы заполучить.
— А это всегда остается с тобой, так, что ли? — спросил я.
— Беден только тот, кто уже ничего не хочет. Кстати, не желаете ли теперь выпить той самой водки, от которой вы только что отказались?
Я кивнул. Мойков наполнил рюмки. На водку он явно не скупился. У него была своеобразная манера пить. Маленькая рюмочка совершенно исчезала в его громадной руке. Он ее не опрокидывал — он очень медленно проводил ею вдоль рта, так что видна была только рука, а затем бережно ставил на стол пустую рюмку. Заметить, что он пьет, было невозможно. Потом он снова открывал глаза, которые на мгновение казались лишенными век, словно у старого попугая.
— Ну как, теперь сыграете в шахматы? — спросил он.
— Ладно, — согласился я.
Мойков расставил фигуры.
— Что мне нравится в шахматах, так это их абсолютная нейтральность, — заявил я. — В них не прячется проклятая мораль.
За следующую неделю мой второй, нью-йоркский возраст стремительно увеличился. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском были не лучше, чем у пяти-шестилетнего мальчугана, то к концу недели я уже дорос до уровня восьмилетнего. Каждое утро я брал свою грамматику и на несколько часов усаживался с ней в красных плюшевых креслах, а после обеда искал случая завязать хотя бы самую нескладную беседу. Я знал, что должен научиться хоть как-то объясняться, прежде чем у меня кончатся деньги, чтобы начать зарабатывать. Это было не учение, а настоящая гонка с сильно ограниченным временем.
Так я поочередно набрался самых разных акцентов: французского, немецкого, польского, еврейского, а под конец, окончательно убедившись, что наши уборщицы и горничные были стопроцентными американками, я перенял их бруклинский акцент.
— Тебе бы надо завести роман с какой-нибудь учительницей, — сказал мне однажды Мойков, с которым мы за это время перешли на «ты».
— Из Бруклина?
— Из Бостона. Тамошний выговор чище любого другого в Америке. Здесь, в гостинице, разные акценты носятся в воздухе, словно тифозные бациллы. А ты, как видно, воспринимаешь только всякие крайности, но вот к нормальной речи, к сожалению, глух. Немного ярких эмоций — и дело пойдет на лад.
— Владимир, — сказал я ему, — я и без того расту на глазах. Каждый день мое английское «я» становится на год старше. К моему глубокому сожалению, мир этого «я» теряет свое очарование. Чем больше я понимаю, тем меньше остается в нем тайн. Загадочные чужеземцы в драгсторах постепенно превращаются в заурядных торговцев колбасой. Еще пара недель — и оба мои «я» уравновесятся. Тогда, наверное, придет и окончательно отрезвление. Нью-Йорк перестанет быть Пекином, Багдадом, Афинами и Атлантидой и превратится в Нью-Йорк, а за экзотикой мне придется ходить в Гарлем или в китайский квартал. Так что дай только срок! И на произношение тоже. Не хочу, чтобы мое второе детство промелькнуло слишком уж быстро!