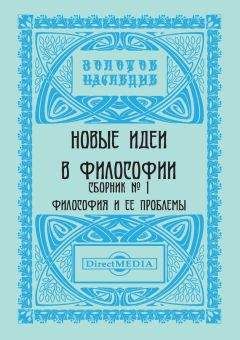Философия, понимаемая как синтез наук, или становится исключительно научной, и тогда не может быть называема философией, или же остается философской, и тогда она противонаучна.
Но не может ли быть философия если не наукой наук, то, по меньшей мере, наукой, аналогичной другим наукам? Не представляет ли и она картину эволюции, наблюдаемую нами в математике, астрономии, физике, физиологии, которые, смешанные первоначально с метафизикой, выделили мало-помалу этот чужеродный элемент и стали науками в строгом смысле этого слова?
Мысль рассматривать философию как особую положительную науку была в наше время блестяще применена многими умами. Но результатом их работ оказалось, по-видимому, просто распадение философии на ряд отдельных наук, из которых каждая более или менее автономна. Положительной науке свойственно идти от фактов к принципам, а не от принципов к фактам. Но рассматриваемые с этой точки зрения объекты различных частей философии – психологии, логики, этики, эстетики – оказались глубоко различными. Слова «научная философия» являются, благодаря этому, простой этикеткой, обозначающей науки почти столь же разнородные между собой, как минералогия и ботаника. В действительности философия исчезает, как нечто единое; она уступает место коллекции наук, называемых философскими. Философия не представлена более в языке так, как ей подобает, т. е. через существительное, но через прилагательное.
Нет спору, что эти специальные исследования вполне правомерны и необходимы и что они были очень плодотворны. Но приличествует ли этим наукам, частным как по своему методу, так и по своему объекту, название философских?
Философия во все времена предполагала два условия: 1) попытку рассматривать вещи с единой и универсальной точки зрения, независимо от того, могут ли они, или нет, быть приведены сами к единству: σύνοφις, таков термин, который употреблял Платон; 2) рассматривание вещей в их отношении к человеку. Τί πρόζ ήμãζ; какое значение имеет для нас мир? что мы в нем? какую роль играем мы в нем? что можем мы ждать или извлечь из него? как глядеть нам на него? – вот вопросы, которые задавал каждый философ вселенной. Устранить эти вопросы; отложить – может быть, на неопределенный срок – и проблему единства вещей и проблему их значения с точки зрения человека; попытаться очистить наши воззрения навсегда от всякого субъективного и человеческого элемента; допускать, одним словом, только объяснение человека миром и начисто отбросить всякое объяснение мира человеком – это не значит до водить философию до степени ее совершенства, это значит уничтожить ее. Или философия едина и человечна каким-нибудь образом, или она вовсе не существует.
Но, чтобы сохранить права философии на существование наряду с наукой, требующей для себя привилегии объяснения всех вещей, может быть, нужно нечто иное, чем построение философии по типу науки? Нельзя ли – уступив науке все то, что представляет собой объяснение, что есть сведение одного явления к другому – стать решительно на почву чистого опыта и попытаться показать, что философия, как и сама наука, старается анализировать самые подлинные факты, которые отличаются от изучаемых наукой фактов лишь тем, что они более первичны, менее смешаны с отвлеченными понятиями и объяснительными гипотезами, более точно соответствуют идее факта, непосредственно данной реальности? Философия, понимаемая таким образом, не будучи в точности наукой (ибо объект ее находится в иной плоскости, чем объект наук), представляла бы существенные черты всякой науки: преклонение перед фактом, перед опытом. Философия была бы в этом случае сознанием первичного и непосредственного опыта, между тем как наука была бы систематизацией обычного, вторичного и косвенного опыта.
Перед нами очень соблазнительное определение. Но каким образом мог бы получить человек этот непосредственный опыт, независимый от всякого отвлеченного понятия, предшествующий образованию таких понятий? Что такое интуиция сама по себе, без всякой примеси отвлеченного понятия? Не представляет ли такая операция скорее только одну половину действительной операции нашего духа, одну сторону опыта, искусственно изолированную от другой и одаренную иллюзорной индивидуальностью и самодовлением?
А допустив даже, что подобная интуиция без отвлеченных понятий возможна, можно ли избегнуть знаменитой дилеммы Канта: если понятие без интуиции пусто, то интуиция без понятия слепа. Реальное знание человека получается лишь путем соединения отвлеченного понятия и интуиции. Если убрать совсем понятия, то остается то, что называют чистым чувством; это, разумеется, реальное состояние, но само по себе оно вполне субъективно, т. е. оно имеет, может быть, непреодолимую убедительность для переживающего его человека, но не имеет никакого интеллектуального значения для других людей.
Да и сама эта сила убеждения, приписываемая себе чувством, скорее мнимая, чем действительная. Воображение, говорил Лесли Стифен, следует лишь издали за разумом: The imagination lags behind the reason. Но оно все-таки следует за ним. И идеи, ассоциируемые нами с нашими самыми сильными чувствами, рано или поздно должны будут согласоваться с совокупностью наших познаний. Такой-то человек чувствует в себе сверхъестественное действие посторонних сил, там где другой человек, привыкший мыслить в терминах физиологии, находит лишь органическое раздражение.
Ни в качестве науки, ни в качестве опыта – в научном смысле этих слов философия не оказывается состоятельной в глазах современной мысли. Какое же предстоит ей будущее?
A priori нет никаких оснований думать, что будущность философии обеспечена. Разве продолжительность существования чего-нибудь есть, сама по себе, гарантия дальнейшего существования? Сколько вековых верований исчезло! Есть случаи, когда слово «древний» синонимично с «достойным уважения», но есть другие случаи, когда оно равнозначаще со «ста рым», «ветхим». Философия представляла собой одну определенную стадию в развитии человеческого духа; она сыграла свою роль, полезную и славную в истории этого развития; и все-таки нет ничего невозможного в том, что в один прекрасный день она окажется бесполезной, вредной, и именно благодаря торжеству того самого способа познания, который она подготовила и взлелеяла, благодаря торжеству науки.
Если отныне человеческий дух безвозвратно связан с наукой, и если существование науки исключает логически существование философии, то каким образом сможет неопределенно долгое время существовать философия, это порождение логики и разума? Это убьет то – вот где находит свое применение знаменитое изречение.
IIIИ однако по всеобщему признанию философия находится теперь в цветущем состоянии. И живым доказательством этого является все возрастающий успех наших конгрессов. И обновление философии, приобретение ею новых сил, происходит в настоящее время не путем изолирования ее от наук, а, наоборот, путем приближения к ним, путем все более и более интимного соединения с ними. Что же это значит? Не жертвы ли мы какой-нибудь иллюзии? Не по ошибке ли носит этот конгресс название философского? Не преуспевают ли на наших собраниях лишь некоторые специальные исследования, весьма похожие на те, которым посвящают себя исключительно научные съезды?
Прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, спросим себя, каким образом следует произвести это рассмотрение.
Если бы мы пытались – отвлекшись от притязаний науки – установить непосредственным образом закономерность философских наследований, то мы бы не вышли из сферы абстрактно-диалектических упражнений. Чудесное развитие наук не просто открыло кучу истин, с которыми приходится считаться; оно создало тип мышления, форму понимания, с которой мы отныне неразрывно связаны и сообразно с которой мы рассматриваем предлагаемые нам концепции. Философия сможет существовать в дальнейшем лишь в том случае, если она будет находиться в гармонии с тем способом мышления, который породила наука. Вот почему анализ природы и прав философии должен отныне исходить из рассмотрения наук.
Но, если мы исходим из рассмотрения наук, то значит ли это, что мы будем считать себя в праве мыслить только сообразно категориям научного духа, как такового? Если нет иного правомерного мышления, кроме строго научного мышления, то всякое дальнейшее исследование бесполезно, ибо проблема решена наперед. Если можно мыслить лишь с помощью числа, говорил Филолай, то все представляет для нас неизбежным образом число. Точно таким же образом, если только одна наука способна доставлять нам истины, то философия – поскольку она имеет притязания быть чем-то отличным от науки – может иметь своим объектом лишь заблуждение.
Но представляет ли в самом деле наука наш единственный орган познания? Человеческая жизнь в любое мгновение обнаруживает перед нами и другой орган – именно то, что называют разумом. Ведь всякий знает, что в сфере практического мы принимаем решения не просто под влиянием одних методически приобретенных знаний, но и в согласии с некоторым чутьем реального и нужного, которое, нисколько не становясь в противоречие с научным познанием, дополняет и направляет его согласно потребностям не могущего ждать действия. Разум не есть наука. Эта последняя представляет сумму сведений; первый же есть живая способность. Наука доставляет данные, точки опоры, материалы; разум судит. Судить – это значит различать, выбирать, усваивать, делая все это не механически, не применяя автоматически какое-то внешнее правило, но мысля в категориях невыразимой идеи истинного. Науки получаются путем анализа явлений. Разум образуется путем размышления и над науками и над жизнью.