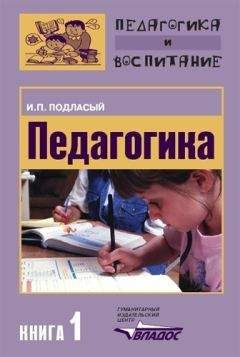«Чти учителя, как Бога», – приказывал отец, отдавая сына в школу. Наставлению этому, хранящемуся в древнеегипетских папирусах, более двух с половиной тысяч лет. Многое с тех пор изменилось, но не изменилось призвание учителя – сеять разумное, доброе, вечное.
Те государства в истории человеческой цивилизации вырывались вперед, где были лучше школы и учителя. Любое их преуменьшение почти всегда заканчивалось плачевно: государства хирели, нравы ухудшались. Вроде бы и незаметный человек учитель, но достаточно свести его с пьедестала и тем самым подорвать у людей веру в истину, личным представителем которой он выступает, как тут же поднимает голову и начинает свое разрушительное действие невежество, отбрасывая все достижения цивилизации назад, к пещерам. Крепись, учитель!
Возможно, эти слова покажутся несколько высокопарными. Но разве не благодаря учителям мы познаем Вселенную и самих себя? Разве не Циолковский указал людям дорогу в космос? Разве не Сократ был учителем человечества?
Разве не о такой роли учителя мечтал М. Горький: «Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас – это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все вопросы, чтобы мужики признали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него, унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит название инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа…»
Да, было и такое. Хорошо, что прошло.
В уставе Львовской братской школы 1586 г. было записано: «Дидаскал или учитель сея школы мает быти благочестив, разумен, смиренно мудрый, кроток, воздержливый, не пьяница, не блудник, не лихоимец, не сребролюбец, не чародей, не басносказитель, не пособитель ересям, но благочестиво поспешитель, образ благий во всем себе представляющий не в ситцевых добродетелях, да будут и ученицы, яко учитель их».
Учителя должны быть образцом простоты – в пище и одежде, бодрости и трудолюбия – в деятельности, скромности и благонравия – в поведении, искусства разговора и молчания – в речах; должен подавать пример «благоразумия в частной и общественной жизни».
С профессией учителя совершенно несовместимы лень, бездеятельность, пассивность. Хочешь изгнать эти пороки из учащихся, прежде избавься от них сам. Кто берется за воспитание юношества, тот должен познаться и с ночным бодрствованием, с тяжким трудом, избегать пиров, роскоши и всего, «что ослабляет дух».
Я.А. Коменский требовал, чтобы учитель внимательно относился к учащимся, был приветливым и ласковым, не отталкивал их от себя своим суровым обращением, а привлекал их отеческим расположением, манерами и словами. Учить нужно легко и радостно, «чтобы напиток науки проглатывался без побоев, без воплей, без насилия, без отвращения, словом, приветливо и приятно».
«Плодотворным лучом солнца для молодой души» называл учителя К.Д. Ушинский. Он предъявлял к народным наставникам исключительно высокие требования и считал, что учитель должен иметь глубокие и разносторонние знания, твердые убеждения. Без них нельзя стать настоящим учителем: «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением». Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, остается мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности.
РБ
Свидетельские показания
Все мы прошли через руки учителей. Бережно лепили они податливый воск наших душ. Знали: одно-единственное неверное прикосновение по ошибке иль недомыслию – и человек навсегда останется с отметиной.
Тяжело писать о жестоких учителях, о постыдных нарушениях педагогической этики, но взывают к гласности судьбы несчастных, и можно ли молчать о неблаговидных фактах, даже если бы они случались раз в тысячу лет?
Увы, случаи жесткого обращения с учениками не редкость.
Старый капитан на Миссисипи (он не был профессиональным учителем, и потому одним позорным пятном меньше) хвастался:
«Ну, это ты брось! Раз я сказал, что обучу человека речному делу, значит обучу. Можешь быть уверен – я его либо выучу, либо убью». М. Твен, написавший эти строки, знал о «педагогических приемах» речного волка не понаслышке.
Не был профессиональным учителем и отец маленького Никколо Паганини. Если верить А. Виноградову, приобщение будущего великого музыканта к игре на скрипке происходило следующим образом: «Начался первый урок скрипичной игры. Маленький человек с трудом понимал отца. Отец раздражался и на каждый промах сына отвечал подзатыльником. Потом взял со стола длинную квадратную линейку и стал ею пользоваться во всех случаях, когда сын делал ошибку. Он легкими и почти незаметными ударами бил его по кисти до кровоподтеков. К тому времени, когда вернулась с покупками Тереза Паганини, синьор Антонио был уже в полной ярости. Он запер мальчика в чулане и велел ему играть первое упражнение».
А вот несколько взятых почти наугад литературных свидетельств.
Н. Помяловский рисует нам яркие типы «бурсацких» педагогов.
«…Лобов, прихлебывая из оловянной кружки, просматривал нотату и назначал по фамилии, кому к печке для сечения, кому к доске на колени, кому коленами на ребро парты, кому без обеда, кому в город не ходить. Потом он стал спрашивать учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в слово, и запивал бурсацкую премудрость круто заваренным квасом.
После экзаменации пяти учеников он стал дремать и, наконец, заснул, легенько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дождаться, пока не проснется великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял – жирно, дескать, будет, а отмечал ногтем в книге с энтих до энтих, представляя ученикам выучить к следующему, то есть классу.
Ударил звонок, учитель проснулся и после обычной молитвы удалился.
Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный, и строг до крайности. С ним шуток никто не любил; ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священную обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех, и прилежных и скромных, так, чтобы ни один не ушел от лозы,»
Науке известно все: кто изобрел паровоз, кто поднял в бескрайние просторы Вселенной первый космический корабль. Но она не знает имени человека, который первым начал совмещать обучение с поркой. Имена недоброй памяти экспериментаторов не вписаны в летопись педагогики, но их опыт дополняется все новыми примерами новаторского поиска и смелого эксперимента.
«…Пушар был очень маленький и очень пьяненький французик, лет сорока пяти. А нас, воспитанников, было у него всего человек шесть; из них действительно какой-то племянник московского сенатора, и все мы у него жили совершенно на семейном положении, более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника. Пушар вошел в классную комнату, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки.
– Твое место не здесь, а там, – указал он мне крошечную комнатку. Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и все равно, что лакей.
И он пребольно ударил меня по щеке…»
Это уже Ф. Достоевский рассказывает о своем первом столкновении с обучением.
Испил горькую чашу невежественного обучения и А. Герцен. Его учитель не бьет, не кричит, но и не учит.
«…Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и со строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник. В деле воспитания мечтатель с юношескою добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучал всевозможные трактаты о воспитании и педагогии от «Эмиля» и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного он не вычитывал в этих книгах, – что вернейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, – так, как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи, – должно быть воспитание…»