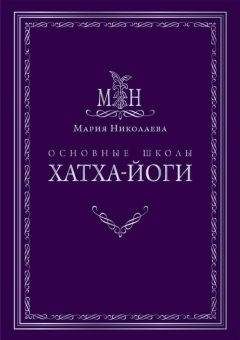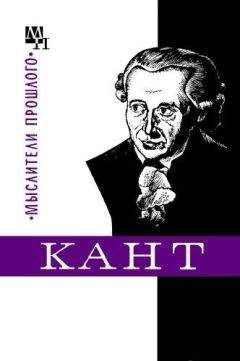Таковы взгляды Бергсона на жизненный порыв и на его проявление в природе и человеческом сознании. Они в существе согласны со взглядами Вл. Соловьева на природу: Вл. Соловьев тоже различает два начала – хаотическое и Божественное (divin и extradivin); материальный мир точно так же понимается, как другое направление, противоположное действию жизненного порыва, ибо мир явлений понимается, как перестановленный или обращенный божественный мир (le divin transposé ou renversé) у Вл. Соловьева. В основе мирового процесса предполагается точно также сознательность или сверхсознательность, и человеку приписана также роль «собирателя»; он должен уничтожить то рассеяние, которое препятствует полной концентрации и осуществлению единства; жизнь и свобода принадлежат только духовному миру, в материальном же господствует пространство, время и необходимость, которыми реальность не определяется. Наконец, если Бергсон осторожно говорит, что человек победит, «может быть, и смерть», то Вл. Соловьев решительно утверждает, что цель космического и исторического процессов состоит в победе любви над смертью и в восстановлении «всяческих». Оба мыслителя приписали эстетическому чувству в этом процессе первенствующую роль. На этом и кончается сходство воззрений двух мыслителей. Главное различие их состоит в том, что высшим понятием в философии Бергсона является процесс, а в философии Вл. Соловьева – бытие; первый следует за Гераклитом, второй – за элеатами; поэтому первый не знает вечных и неизменных истин, в то время как для второго в процессе мы имеем дело «только с отблеском, только с тенью от незримого очами». Эта разница станет, по всей вероятности, еще большей, когда Бергсон обратится к этическим и религиозным проблемам.
IVМы видели, что мистические тенденции современности, вызванные господством позитивизма и чрезмерными ожиданиями, связанными с успехами наук, выразились в политеизме Джемса, выросшем на почве эмпиризма, в исканиях нового органа философии и приступе к созданию новой метафизики у Бергсона и, наконец, в законченном мистицизме Вл. Соловьева; мы воздерживались от каких-либо суждений относительно состоятельности этого направления. В истории неоднократно замечалось усиление мистицизма, но рационализм брал всегда верх над ним и загонял его в область художественного творчества, оставляя за собой сферу научного умозрительного мышления. Современный мистицизм отличается от прежних форм тем, что он нисколько не враждебен науке. Как Бергсон, так и Соловьев постоянно подчеркивают согласие своего мышления с наукою, с другой стороны и самая наука не относится теперь так враждебно к понятиям, добытым интуитивным путем; это видно, например, из рассуждений современных физиков о принципе относительности. Так, проф. Хвольсон прямо заявляет, что «никакими исследованиями распространения света нельзя обнаружить прямолинейного и равномерного движения той системы, в которой находится наблюдатель. Это следует принять как постулат, как уму непостижимое свойство мира». Указанное обстоятельство – преклонение мистической философии перед наукой с одной стороны и признания – с другой – иррационального начала или, иначе говоря, границ научного познания обещает современному мистицизму лучшее будущее, чем выпало на долю прозрениям Якова Беме или Сведенборга.
Леонард Нельсон
Невозможность теории познания10
Всякий, кто следил за ходом прений на нашем конгрессе, не мог не заметить двух фактов двоякого рода. Правда, они могли быть нам известны уже и из других источников, но подтверждение их здесь не могло не быть для нас чрезвычайно ценным. Один из этих двух фактов – факт отрадный, другой – печальный. Отрадно для нас само осуществление конгресса, свидетельствующее о вере в возможность философии как науки. Возможность интернационального философского конгресса предполагает веру в то, что возможна вообще совместная философская работа, а такая вера возможна только тогда, когда верят в философию как науку. Но еще яснее и действеннее, чем одно осуществление конгресса, свидетельствует об этой вере особо тесная связь на этом конгрессе между философией и точными науками – связь, нашедшая также свое особое символическое выражение в личной унии их в лице нашего глубокоуважаемого президента.
Вы прекрасно знаете, что и в настоящее время есть люди, считающие философский конгресс чем-то смешным, участие в чем недостойно философа. Такой взгляд необходим и естественен у лиц, считающих философию делом личных переживаний, чем-то, что не может быть выражено вполне определенно в сообщаемых другим людям формах, словом, для которых философия не есть наука. Но кто этого взгляда не разделяет, тот не может не приветствовать живой интерес, с которым был встречен конгресс, и особое внимание, уделенное в его программе отношению философии к точным наукам, как отрадное выражение веры в возможность философии как науки.
Итак, все собравшиеся здесь вдохновлены этой верой. Тем не менее мы не можем не задаться вопросом: обладаем ли мы уже такой философской наукой? И здесь, если мы хотим быть честными, мы должны признать, что в настоящее время философии как науки еще нет, и это второй факт, менее отрадный, о котором свидетельствует наш конгресс. Мы видели – и в особенности ясно это показали дебаты – что между присутствующими на конгрессе нет единодушия даже по самым элементарным философским вопросам. Чем более желательно нам ближе подойти к определению цели философии как науки, тем важнее для нас не затушевывать, а напротив, возможно ярче осветить тот факт, что философия в настоящее время не есть еще наука. Тем более оснований для нас исследовать причины, почему нам не удалось еще довести философию до степени науки и каким путем есть надежда положить конец этому недостойному ее состоянию.
Таков вопрос, попытке разрешения которого посвящен мой доклад.
Уже таков характер моей задачи, что я не могу не заняться вопросами постановки проблем и метода. В этом смысле в моей попытке не будет ничего нового, ибо наше время чрезвычайно богато такими исследованиями методического характера. Некоторые считали даже бедствием, своеобразным симптомом болезни тот факт, что современная философия преимущественно занимается вопросами собственного своего метода. Я не могу согласиться с этим взглядом. Не мое дело, как это обстоит с этим вопросом в других науках, но в философии это не признак упадка, а напротив, признак оздоровления, когда в ней прежде всего заботятся о правильном методе. В других науках материал, подлежащий познанию и приведению в научную форму, получается сравнительно простыми средствами и нет нужды в особом предварительном исследовании, как этим материалом распорядиться. Другое дело – философия: здесь все зависит как раз от такого методического предварительного исследования. Ведь материал познаний, долженствующий составить содержание философской науки, не дается нам прямо в руки, а все зависит от того, что нужно нам сделать, чтобы им овладеть. Ясно, что уверенность в правильности результатов всецело зависит здесь от выбора правильного метода. Поэтому, как ни трудно придти к соглашению относительно этого метода, все же было бы бесполезно дебатировать об определенных результатах, покуда это соглашение не достигнуто. Правда, все многочисленные попытки последнего времени найти правильный метод не увенчались успехом, но отсюда вовсе не следует делать того вывода, что лучше совсем отказаться от них и, наконец, от метода перейти к самому делу. Я, напротив, того мнения, что если все методологические работы до настоящего времени не увенчались желательным успехом, то это объясняется тем, что во всех их задачах не было уделено достаточно внимания и сил, но если продолжать эту работу с необходимой серьезностью и необходимой энергией, то скоро будет найден правильный путь, который выведет нас из дебрей философской анархии на путь светлой и планомерной научной работы.
Беспристрастного наблюдателя развития современной философии не может не поразить тот факт, что разногласия и многообразие философских мнений наиболее велики как раз в той дисциплине, работа в которой предпринимается именно с тем намерением, чтобы положить конец бесплодным спорам ранней метафизики, именно, в теории познания. Ведь самим зарождением теории познания мы обязаны намерению подвергнуть научной разработке философские вопросы, которые без нее казались неразрешимыми, причем одни исходили из той мысли, что путем теории познания удастся обосновать научную метафизику, а другие надеялись именно при помощи теории познания раз навсегда доказать невозможность такой научной метафизики. Чем же объясняется тот факт, что эти, столь основательные, казалось, надежды на мирное научное развитие философии не оправдались, а получилось как раз обратное, т. е. разногласия между философскими школами возросли до неимоверности? Я попытаюсь показать, что это странное на вид явление имеет чрезвычайно простую причину и что с проблемой теории познания дело обстоит не иначе, чем со многими родственными ей проблемами других наук. Там неоднократно уже случалось, что проблема, которая вызывала долгие споры, не подвигавшие ни на шаг к ее решению, в конце концов оказывалась проблемой, которая или вовсе не допускает никакого решения, или решение которой, если здесь говорить о таковом, заключается в доказательстве ее неразрешимости.