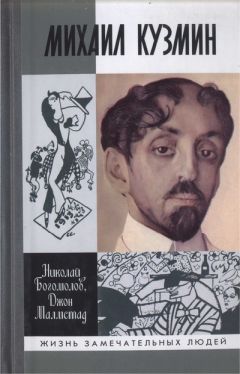А в создававшихся в конце 1917-го и первой половине 1918 года «Занавешенных картинках» подобным противостоянием явилась плотская любовь во всех ее аспектах — от почти невинной детской до гривуазно-стилизованной, от изысканной до грубо материальной (и, конечно, в равной степени гомо-, гетеро- и бисексуальной)[63].
На какое-то время опорой могло стать искусство, которое должно было оградить поэта от происходящего как бы магическим кругом, создать оазис, изолированный от наступления жестокого внешнего мира. Как параллель такому искусству возникали воспоминания о прежнем быте, причем воспоминания, включавшие в единый поток и религиозные переживания, и любовные, и бытовые, заставляющие восторженно перечислять, например, многочисленные торговые дома:
Кожевенные, шорные,
Рыбные, колбасные
Мануфактуры, писчебумажные,
Кондитерские, хлебопекарни,
Какое-то библейское изобилие, —
Где это?
Мучная биржа,
Сало, лес, веревки, ворвань…
И как почти неизменный апофеоз:
Яблочные сады, шубка, луга,
Пчельник, серые широкие глаза,
Оттепель, санки, отцовский дом,
Березовые рощи да покосы кругом.
Но постепенно одна надежда за другой отпадали. Прежнее устройство теплого бытового мира не возвращалось, а, наоборот, становилось все более недостижимым. От жестокой реальности внешнего мира искусство служило плохой защитой. Все реже и реже могло претворяться в действительность гордое заявление 1922 года:
Устало ли наше сердце,
ослабели ли наши руки,
пусть судят по новым книгам,
которые когда-нибудь выйдут.
В послереволюционные годы Кузмин издал восемь из одиннадцати своих стихотворных сборников, однако ни один из них не идет ни в какое сравнение с предыдущими книгами по объему: «Двум», «Занавешенные картинки» и «Новый Гуль» представляют собой летучие брошюрки, «Эхо» — скорее всего собрание оставшегося от других книг, не востребованного ими материала (не зря по упоминавшимся уже гимназическим оценкам «Эхо» получило категорическую двойку, а «Новый Гуль» — натянутую тройку). Поэтому поэтический мир «позднего» Кузмина нужно описывать в основном по четырем книгам: «Вожатый» (1918), «Нездешние вечера» (1921), «Параболы» (1923) и «Форель разбивает лед» (1929).
Да и первые две книги как бы пересекаются: в «Вожатый» вошли стихи 1913–1917 годов, а в «Нездешние вечера» — 1914–1920-го. Как в том, так и в другом сборнике нет сюжетности циклов, как то чаще всего бывало ранее, и сами циклы дополняют друг друга: очень близки «Виденья» из «Вожатого» и «Сны» из «Нездешних вечеров», «Лодка в небе» представляется своеобразным продолжением и развитием цикла «Плод зреет», а многое из «Вина иголок» свободно вписалось бы в «Фузий в блюдечке». Потому две эти книги можно считать своеобразной дилогией.
Обе части этой «дилогии» выстроены по довольно сходному композиционному принципу, который в самых общих чертах можно было бы обозначить как движение от попыток успокоенно-благословляюще взглянуть на мир — через кроющиеся за внешней успокоенностью симптомы глубинного космического неустройства вселенной — к откровенной дисгармоничности, угрожающей человеку уже непосредственно, — и в заключение облегченный вздох венчающего «Вожатый» стихотворения «Враждебное море»: «Таласса!» — или восторженно ликующее прославление «всех богов юнейшего и старейшего всех богов», которым заканчиваются «Нездешние вечера»:
Все, что конченным снилось до века,
ввек не кончается!
Конечно, наша схема не учитывает множество самых разнообразных подробностей, которые вносят соположенные друг с другом стихотворения, более того: композиционные ходы могут даже временами опровергать общее направление движения, могут отсылать читателя на неверный путь и заставлять ошибаться. Но пристальное чтение показывает, что даже в отдельных стихотворениях можно проследить эту эволюцию авторского отношения к миру, где переплетаются надежда и отчаяние, уверенность и опасение, чувство правоты и сознание незавершенности своего дела. Вот лишь одно стихотворение, где само движение мысли построено по тому же принципу, что и общее движение всего стихового массива двух книг:
Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг, —
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Веселый плотник сколотит терем.
Светлый тес — не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит.
Оно все торопится, бьется под спудом,
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов…
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы всё спали, а терем готов.
Но что это, Боже? Не бьется ль тише?
Со страхом к сердцу прижалась рука…
Плотник, ведь ты не достроил крыши,
Не посадил на нее конька!
Амбивалентность образной системы стихотворения совершенно отчетлива, чувства и настроения автора то свидетельствуют о его надеждах, то замирают в смертельном отчаянии. Строение Божьего мира оказывается незавершенным, а человек в нем — незащищенным от земных стихий. И то же самое ощущение выделено в тонкой статье, посвященной анализу цикла «Фузий в блюдечке»: «Надо долго вчитываться в цикл, чтобы через это гутирование выверенных с идеальным чувством меры деталей стало проступать нечто иное: космическое устройство мира в ипостаси неустойчивости, вариативности оппозиций, мене местами прежде всего верха и низа, приводящим к нарушению порядка, к смещению, при всей идилличности чреватому опасностью»[64].
В большинстве стихотворений этих двух книг стилевая система остается прежней, ориентированной на эстетику внешне простого слова, спокойного интонационного голосоведения, на воссоздание благости и умиленности при воспоминании о сугубо русских пейзажах и картинах, частое обращение к «стихотворениям на случай», свободное использование твердых форм (сонет, рондо, терцины, а в «Эхе» еще и вовсе редкостная спенсерова строфа). Но в некоторых стихотворениях чувство непорядка, разлада в мире начинает вписываться непосредственно в текст, его уже не надо специально выискивать.
Взвинченная интонация, исполненная восклицаний и вопросов, разорванные и нарочито неточные рифмы, очень резкие инверсии, непривычные словообразовательные модели, столкновение возвышенного и низменного, ввод в стихотворение далеко не всем известных мифологических образов, отсылки к загадочным для читателя текстам нередко создают впечатление невнятицы, зауми, едва ли не футуристических опытов.
Для самого Кузмина наиболее «футуристически» выглядело «Эхо» с такими стихотворениями, как «Страстной пяток» или «Лейный лемур», который он в дневнике не без оснований именовал «хлебниковщиной», однако и в «Вожатом», и в «Нездешних вечерах» есть нечто подобное. Если «Хлыстовскую» для читавших многочисленные в начале века статьи и книги о русском сектантстве еще представлялась возможность понять без особого труда, преодолев лишь сумбурность словесного радения, то сложные переплетения образов во «Враждебном море» или по-своему преломленные мотивы гностической мифологии в цикле «София» нередко выглядели просто загадочными, требующими специальной расшифровки, основанной на солидных знаниях.
Это сочетание простоты выражения с подчеркнутой, демонстративной сложностью заставляло даже превосходных критиков делать поразительные ошибки. Так, ценитель таланта Кузмина, отчетливо понимавший сложность устройства его поздней поэзии, К. В. Мочульский мог себе позволить фразу, небрежно и мимоходом сводя содержание стихотворения «Адам» из «Нездешних вечеров» к элементарной, чуть ли не предназначенной для детей истории: «Детальная зарисовка вещей, внимание к мелочам и подробностям — естественная реакция от обобщенности и всеобъемлемости символизма»[65]. Обращая внимание на те стихотворения, где сложность чувствуется в словесном строе, критик не заметил, что внешне элементарная история Адама и Евы под стеклянным колпаком далеко не проста, что описание их жизни ни в коей мере не важно само по себе, а служит лишь средством для выражения сложной идеи, развивающейся даже в двух стихотворениях Кузмина, основанных на одном историческом источнике — фрагменте из розенкрейцерской рукописи XVIII века[66]. История создания гомункулических Адама и Евы почти дословно воспроизводит старый текст, однако главным для Кузмина является не их жизнь в стеклянной колбе, а жизнь кабинета, где обитает их создатель. Для него важна не история Адама и Евы, переписанная еще раз, проигранная в театрализованно-примитивизированном ключе, а то, что после наблюдения над ними у тех, кто воссоздал гомункулов, возникает ощущение, что не заключенные в колбе, а сами они — «летучие игрушки Непробужденной тьмы».