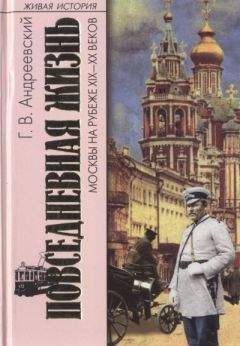Возмущение автора такого выступления понять можно. Самодовольство какого-нибудь дилетанта от науки, презирающего накопленные за века существования человечества мысли, вполне могло его раздражать. Однако это не значит, что именно религии выпала честь ответить на вопросы: откуда мы приходим, для чего живём и куда уходим. На вопросы эти в XIX и XX веках пыталась ответить литература. Именно она, используя весь опыт человеческой жизни, включая и религиозный, помогала, как могла, людям понять смысл своего существования.
Что касается Золя, то его достаточно трезвые взгляды на вещи возмущали не только сторонников церкви. Совершенно несостоятельными они показались и Льву Николаевичу Толстому. В 1893 году он написал статью, назвав её «Неделание». В ней наш великий писатель отзывался на выступления Золя и Дюма-сына по поводу молодёжи и её отношения к науке, к труду, к миру. Толстой в статье приводит выдержки из речи Золя перед студентами университета, в которой тот возмущался тем, что науку отталкивают на прежнее место, то место, которое она занимала, когда считалась простым упражнением ума и не вмешивалась в сверхъестественное и загробное, которым занималась церковь. Золя в своей речи, как мы видим из приведённых отрывков, звал молодых людей верить не в Бога, а в науку и труд. «Работайте же, молодые люди! — говорил он. — …Будущий век принадлежит труду… Человек, который работает, всегда бывает добр… Я убеждён, что единственная вера, которая может спасти нас, есть вера в совершенное усилие. Прекрасно мечтать о вечности, но для честного человека достаточно пройти эту жизнь, совершив своё дело». В ответ на это Толстой, не без сарказма, замечает: «… Меня всегда поражало то удивительное, утвердившееся, особенно в Западной Европе, мнение, что труд есть что-то вроде добродетели… Золя говорит, что труд делает человека добрым, я же замечал всегда обратное: осознанный труд, муравьиная гордость своим трудом делают не только муравья, но и человека жестоким. Величайшие злодеи человечества всегда были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами с собой без занятий и увеселений». Что же касается науки, то её Толстой называл «суеверием настоящего», видел в ней лишь совокупность самых случайных, разнообразных и ненужных знаний и считал её средством отвлечения от проблем, как и мистику. В подтверждение своего мнения он приводил деятельность биржевого игрока, банкира, фабриканта, на предприятиях которых тысячи людей губят свои жизни над изготовлением зеркал, папирос, водки. «Все эти люди работают, но неужели можно поощрять эту работу?» — вопрошал «яснополянский старец». Вот религия — совсем другое дело. В статье «Что такое религия и в чём сущность её?» он писал: «Истинная религия есть такое согласие с разумом и знаниями человека, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками». В науке же, согласно Толстому, «вместо самых естественных ответов на вопрос о том, что такое мир живых существ, растений и животных, разводится праздная, неясная и совершенно бесполезная болтовня, направленная преимущественно против библейской истории Сотворения мира, о том, как произошли организмы, что собственно никому не нужно, да и невозможно знать, потому что происхождение это, как бы мы ни объясняли его, всегда скроется для нас в бесконечном времени и пространстве. Разумный человек, — писал далее Толстой, — не может жить без религии именно потому, что разум составляет свойство его природы… Он устанавливает своё отношение не только к ближайшим явлениям жизни, но и ко всему бесконечному по времени и пространству миру понимая его как одно целое. И такое установление… и есть религия».
Прекрасно путаные мысли! В них прелесть и нелепость русской интеллигенции, не умевшей пришить оторвавшуюся пуговицу к собственным штанам, но претендующей на учреждение в мире всеобщей любви и гармонии. При таком высоком устремлении становится понятным предпочтение, оказанное Толстым Дюма-сыну.
Последний предсказывал, что люди очень скоро, испробовав всё, возьмутся за приложение к жизни закона «любви друг к другу» и будут охвачены «безумием, бешенством» любви. Толстому близки такие взгляды. «Любовь к ближнему, — пишет он, — выгодное, полезное и доброе дело… Для того, чтобы на Земле установилось царство Божие, нужно, чтобы все люди начали любить друг друга без различия личностей, семей и народностей… Людям стоит только остановиться в своей суете, и они тотчас увидят её бессмысленность».
Монастырские будниЗа стенами Кремля находился Чудов монастырь. Основан он был в 1365 году при Дмитрии Донском, за 15 лет до Мамаева побоища. Здесь великие князья и цари крестили своих детей.
Когда первый день 1847 года «Высочайшим повелением» был объявлен днём 700-летия Москвы, митрополит Московский Филарет собрал в кафедральной церкви обители к молебному пению настоятелей других монастырей, протоиереев, членов Консистории и благочинных[81] и по окончании литургии и благодарственного молебна повелел по такому случаю устроить во всей Москве вседневный колокольный звон. Весь день 1 января 1847 года в Москве звонили колокола, призывая москвичей молиться и славить наступивший восьмой век существования их родного города.
1876 год ознаменовался буйством в этом монастыре монаха Андроника. В пьяном виде этот монах становился совершенно ненормальным. Однажды после вечерни он неистово кричал на крыльце какую-то чепуху, а за вечернею трапезой ломал ложки и бил посуду, сбрасывая её со стола. Не раз он бил стёкла в окнах келий монахов и послушников. Всего им были перебиты стёкла в окнах тридцати келий. Бил он стёкла и в своей келье, а выбив их, стал выбрасывать из окна вещи на улицу. Около окна тогда собралась толпа посмотреть на разбушевавшегося монаха. Пришёл и городовой. Насилу Андроника усмирили. После этого перевели его в келью, окно которой выходило во двор монастыря. Чтобы представить, как его действия выглядели со стороны, достаточно прочитать объяснения одного из монахов. Вот что он писал: «Я услышал на переходах шум и безобразную стукотню — это Андроник, перебив несколько окон келий моих соседей, куда его не пускали из страха быть изувеченными, добрался, наконец, и до меня. Конечно, и я, по примеру других соседствующих братий, и на этот раз, как и всегда, не отважился отворить дверь своей кельи для такого непрошеного гостя, который, судя по его поступкам, кажется, походит на животное, одержимое болезнью водобоязни. Только перестал звонок бить тревогу, послышался другой, более тревожный звук — это полетели осколки стекла моего окна, мгновенно разбитого палкою из собственной руки того же монаха Андроника».
Андроника призвали к ответу. Он признал нетрезвость и буйство «в желчном состоянии» и объяснил, что начал пить с горя, потому что был отстранён от крестного хода из Чудова монастыря в Успенский собор. Устранили же его от крестного хода по причине его нетрезвости и из опасения того, что он учинит во время него очередное безобразие. Монастырское начальство не раз сетовало на то, что справляться с хулиганами и пьяницами монастырям трудно. Монастырская стража не могла удержать Андроника и таких, как он, от отлучек из монастыря и «бесчиний».
Андроник же, несколько протрезвев и почувствовав, что над ним сгущаются тучи, взял гусиное перо и написал митрополиту Московскому и Коломенскому Иннокентию следующее письмо: «В ноябре месяце прошедшего 1875 года с соизволения Вашего Высокопреосвященства имел я счастье быть определённым в числе Братства Кафедрального Чудова монастыря. Благодаря Господа Бога и Великого Его Угодника Святителя Алексия, а также и всегда благословляя в душе священное имя особы Вашего Высокопреосвященства за оказанные мне столь великие милость и снисхождение, я утешал было себя надеждою — здесь, под кровом Святителя и Чудотворца, провести остаток скорбной моей жизни (а ему тогда и сорока лет не было. — Г. А), но к величайшему моему прискорбию, как я вижу ныне, таковое моё предположение совершенно несбыточно. По времени оказалось, что жизнь в шумном и душном городе Москве мне не по состоянию здоровья и не по силам, а особенно при отсутствии возможности удовлетворения необходимой для меня, по слабости груди, потребности дышать в летнее время чистым воздухом. Вследствие чего, повергаясь к священным стопам Вашего Высокопреосвященства, я осмеливаюсь просить отеческаго снисхождения к покорнейшему моему прошению: Всемилостивейший Отец и Владыка, благоволите сделать Архипасторское распоряжение о перемещении меня из Чудова в Спасо-Вифанский монастырь (в Сергиевом Посаде. — Г. А), где благотворное влияние воздуха при Божьей помощи, по молитвам и заступлению Преподобного Сергия, могут дать мне возможность исправить здоровье и пожить во славу Божию, для спасения многогрешной души своей, сообразно обетам, данным при пострижении в монашество. К сему прошению Кафедрального Чудова монастыря иеромонах[82] Андроник руку приложил».