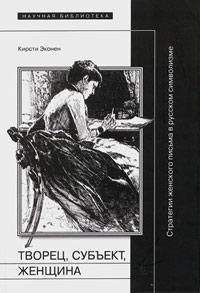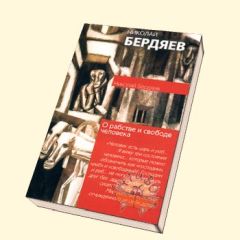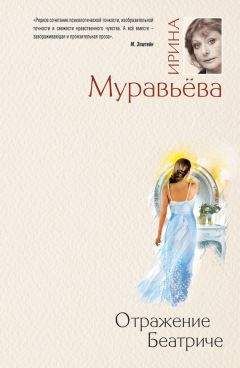Я считаю, что сложный вопрос о конструировании женского творческого субъекта в эстетическом дискурсе, который подчеркивает значение фемининного подсознания, стоит рассматривать в свете феминистской критики психоаналитической теории. М. Хомане, например, видит положительные с женской точки зрения стороны теории (или культурной метафорики) Лакана. Она утверждает, что по лакановской теории женщина (в отличие от мужчины) не теряет связь с «предсимволическим». Она пишет:
according to Lacanian myth of language woman could have the positive experience of never having given up entirely the presymbolic communication that carries over, with the bond to the mother, beyond the preoedipal period. The daughter therefore speaks two languages at once. Along with symbolic language, she retains the literal or presymbolic language that the son represses at the time of his renunciation of his mother.
(Homans 1986, 13)
В качестве примера противоположного мнения я цитирую высказывание Д. Камерон о гендерной модели Кристевой. Она суммирует мысли Кристевой о фемининном субъекте, в котором доэдипальные элементы полностью не заглушены. Она считает, что такой субъект имеет способность разрушить правила практики рационального субъекта, что дает ему двойные возможности. Во-первых, это способствует возникновению новых и творческих форм искусства. Во-вторых, фемининный субъект может оказывать влияние на общественный строй, так как он вызывает беспорядок в (символическом) языке (Cameron 1996, 209). Следует оговорить: Камерон показывает, что фемининный субъект не является синонимом женского субъекта. Р. Брайдотти высказывает более критические взгляды. Она считает, что для Кристевой вопрос о фактическом поле «человека-в-процессе» является мало значимым:
The question whether one (субъект-в-процессе. — К.Э.) is or is not a woman, and what social value is given to that facticity, is not central to Kristevs’s thinking.
(Braidotti 1991, 233)
Также Баттерсбай (Battersby 1989, 137–138), подчеркивая различие категорий фемининного и женского, заключает:
Lacan’s psychoanalytic theory has, nevertheless, appealed to a number of feminists and women influenced by feminism. It seemed that the pre-symbolic feminine order of the imaginary and the ‘real’ offered a means of eluding the privilege allotted to the male in the language of the unconscious. (…)
If the feminine is genuinely excluded from the language and all symbolic representation, how can it be subversive? If language is ‘coincident with the patriarchy’, why isn’t the notion of the ‘feminine’ simply a fiction of the patriarchy?
(Battersby 1989, 137)
Можно прийти к выводу, что для многих теоретиков феминистской мысли, в том числе для Камерон, Брайдотти и Баттерсбай, вопрос о положительности фемининного подсознательного для конструирования женского субъекта является сложным. Те затруднения, которые обнаруживает Брайдотти, вызваны тем, что Кристева пользуется древней культурной мифологией, которая чуть ли не автоматически объективирует женщину. Та же мифология проявляет себя как основа символистской эстетики. Баттерсбай (Battersby 1989, 138) считает, что феминистская эстетика не может иметь в качестве своей основы лакановский взгляд на культуру, язык и субъектность. В целом цитированная выше дискуссия в области феминистской философии и психоаналитической теории во многом открывает те возможности и трудности, которые заключаются в символистском понимании фемининного как подсознательного, и особенно в отношении символистов к творческому субъекту. Вторая часть данной работы показывает, что, подобно современным теоретикам, авторы-женщины русского символизма также выявляли противоположные аспекты в идее о фемининном подсознании (см. особенно главы о З. Гиппиус и Л. Вилькиной).
Сравнив творческий метод Брюсова и Иванова, можно заключить, что они использовали фемининные категории как в процессе творчества, так и в процессе формирования своей эстетики. Разница между ними заключается в том, что Иванов рассуждает о мировой культуре и об искусстве как о религии, а Брюсов ограничивается проблемами творческого субъекта и творческого процесса. Другими словами, если для Брюсова важно обновление художника и творчества, то Иванов стремится к обновлению человека и культуры в целом. Функция категории фемининного в обоих «проектах» совпадает. Ни Иванов, ни Брюсов не обсуждают специфику женского творчества. В этом пункте их идеи пересекаются с мыслями Кристевой, которая, анализируя поэтический язык, интересуется не женщинами, а фемининным.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что мыслители, анализирующие женское творчество в контексте фемининного «подсознания», высказывают порой противоположные мнения. Во многом это зависит от того, что и символистский дискурс, и психоаналитический теоретический дискурс оставляют открытым вопрос о специфике соотношения женщины и фемининного (и соотношения мужчины и маскулинного). Именно этот вопрос, как мы увидим во второй части данной работы, был важным, даже роковым, для авторов-женщин. Неоднократно в их художественном творчестве поднимается вопрос о том, отождествляется ли женщина с подсознательным (семиотическим, долингвистическим) и является ли данное свойство характерным именно для женщин. Если первая возможность отказывает женскому субъекту и тем самым женскому творчеству в существовании, то вторая интерпретация выделяет именно женщину как идеального символистского творческого субъекта. Таким образом, изучение функции фемининного как подсознательного в символистском эстетическом дискурсе обнаружило две противоположные возможности функционирования, которые эта категория имела для авторов-женщин.
Комплементарная модель творчества: андрогин, денди и родитель(ница)
Символистское искусство, акцентируя ведущее положение творческого субъекта, нередко указывает на романтическую модель творца как гения. Гениальность определяет себя как часть комплементарной пары гениальности и талантливости. О. Рябов показывает, что в философии С. Булгакова гениальность является мужским, зачинающим началом в творчестве, а талантливость женским, воспринимающим и рождающим началом, синонимами которого являются душа и Психея (Рябов 1997, 83). По мнению Булгакова, с одной гениальностью или с одной талантливостью великое творчество невозможно — нужны и мужские, и женские качества. По внутренней иерархии маскулинная гениальность выше фемининной талантливости. С гениальностью надо родиться, а талантливость можно приобрести, ей можно научиться. Как пишет В. Иванов, гениальность изначальна, талантливость производна (Рябов 1997, 83)[93]. Андрей Белый защищает женщин от мизогинизма О. Вейнингера следующим образом:
…взгляд на женщину как на существо, лишенное творчества, критики не выдерживает. Женщина творит мужчину не только актом физического рождения: женщина творит мужчину и актом рождения в нем духовности. Женщина оплодотворяет творчество гения: стоит только припомнить влияние женщины на ход развития гения Гете, Байрона, Данте. (…) С одной стороны, мы не встречаемся почти с гениальными женщинами. С другой стороны, без влияния женщины на мужчину человечество не имело бы тех гениев, которыми оно справедливо гордится и существование которых наталкивает Вейнингера на мысль о превосходстве мужского начала.
(Русский эрос 1991, 104; ст. включена в кн. 1911 г. «Арабески»)
Защищая женщину, Андрей Белый, однако, лишает ее возможности самостоятельной творческой деятельности. Он анализирует пару гениальность — талантливость и приходит к выводу о том, что женщина не обладает гениальностью, которая и является предпосылкой настоящего творчества. В русском символизме, как и в западной культурной традиции вообще, гениальность тесно связана с мужскими гениталиями, как показывает Кристин Баттерсбай в книге «Gender and Genius» (1989), особенно в главе «The Genitals of Genius» (Battersby 1989). Гендерно маскулинная концепция гениальности требует для себя оппозиции, которую нашли в фемининном понятии талантливости[94]. Гениальность и талантливость можно, таким образом, рассматривать как один из примеров комплементарной метафоры творчества.
Идея и идеал комплементарности существует в определенном виде во всех функциях категории фемининного в символистской эстетике[95]. Идея синтеза маскулинного и фемининного уже поднималась выше при обсуждении функции фемининного как взаимодействия подсознания и сознания творческого субъекта. В зеркальной метафорике можно также различить некую пару: отражение и отражаемое. В данном разделе я сосредоточиваюсь на том, как фемининное и маскулинное требуют и обосновывают существование друг друга, являясь частями пары. В отличие от предыдущего раздела, тут обсуждение расширяется от темы творческого субъекта и его психики до сферы творческого процесса.
В основе комплементарного мышления лежат т. н. основные бинарные оппозиции культуры, как, например, противопоставление духа и материи или материи и формы. Представление об оппозиции логичного, маскулинного, языкового сознания хаотичной, фемининной, внеязыковой душе проявляется уже в мифах об Орфее и Эвридике и об Аполлоне и Дионисе[96]. Оба мифа служат средством конструирования авторства, и последний стал вслед за Ницше некой теоретической моделью творческого акта в модернизме. Популярность комплементарной модели и ее метафорическое богатство объясняются (ре)продуктивностью пола и сексуальности: творчество сопоставляется с сексуальным актом, а творческое состояние с оплодотворением (сознания творческого субъекта). Важным источником комплементарной (хотя и однополой) модели у символистов служил «Пир» Платона (см. об этом особенно в гл. 10 моей книги).