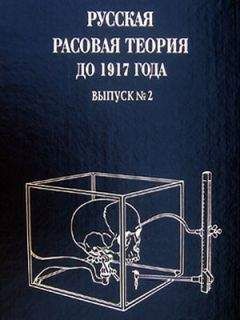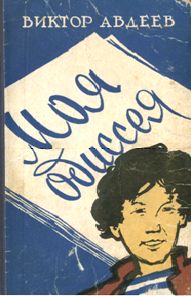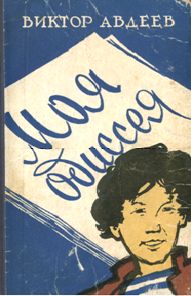Вот почему, признавая в солярных и метеорологических объяснениях мифов долю правды, можно вместе с тем считать их иногда очень неудовлетворительными. Они представляют, так сказать, только этимологию некоторых составных частей мифа, и, оставляя совсем без внимания семазиологию, т. е. историю изменений значении этих последних, не представляют и не могут представлять в большинстве случаев настоящего объяснения целого мифа.
В моем «Каннибализме» я показал, в особенности на примере цикла сказаний о Ликаоне и Зевсе Ликэйском, в какой степени в мифах отражается бытовая сторона народа. Имея преимущественно в виду доказать существование людоедства в древнейшее время, я мог указать на замечательное множество мифов, древнейшая форма которых оказалась понятной только при допущении фактического существования людоедства и человеческих жертвоприношений в смысле угощения богов человеческим мясом. Теперь я могу сделать еще один шаг в этом направлении. Я убедился, что в сознании древних Индогерманцев особенно сильно отразился период резких бытовых изменений, сопровождавших устранение людоедства. В культе это устранение выразилось переходом от человечьих жертвоприношений к жертвованию сперва, кажется, лошадей, потом коров, овец и т. д., причем, конечно, у многих народов долго встречались еще рядом с этим и настоящие человеческие жертвоприношения, принимающие, однако, всё более и более смягченный характер: в жертву приносились женщины, дети, под конец считалась достаточной для этой цели самая незначительная часть человеческого тела. Мифы, предания и сказки всех индогерманских народов полны более или менее ясных свидетельств о человеческих жертвоприношениях и об устранении, или, точнее, о замене этих последних животными. Каковы бы ни были первоначальные элементы любого рассказа о «борьбе светлого принципа с темным», почти во всяком случае можно показать, что уже в древнейшие времена смысл этих рассказов был тот, что новый, более гуманный культ заступил место прежнего кровожадного культа, что он поборол безобразное чудовище, требовавшее человеческих жертвоприношений.
Этот переход в жизни народов мне кажется не менее многознаменательным, как переход от язычества к христианству. На сколько христианство успело видоизменить народные религиозные предания и превратить их в легенды о святых чудотворцах и подвижников веры, на столько же, если не в большей степени, в указанный период, с устранением людоедства, первоначальные мифы и предания видоизменились и пересоздались в новые рассказы о том, как совершился столь важный переход, кто был виновником этой новой эры, и, наконец, каким образом менее драгоценная жертва — ребенок, лошадь и т. д. — могла заступить место взрослого человека. Пока мы не поймем этого смысла большинства древних мифов, мы не будем в состоянии восстановить с достаточной точностью более первоначальную форму и смысл тех элементов, из которых сложились эти рассказы.
Вот почему толкования наших мифологов не удовлетворяют нас, несмотря на очевидную правильность большинства делаемых ими предположений. Только вникая во все подробности древнейшего культа, изучая со всей тщательностью обряды, которыми сопровождались жертвоприношения взрослого мужчины, женщины, ребенка, лошади, быка и т. д., мы поймем значение таких рассказов, как напр. о чудесном ребенке, представителем которого является у нас мальчик-с-пальчик, и которого у Греков заменяет между прочим дельфин — этот «символ» не только Посейдона, но и дельфиского Аполлона, спасший Ариона и многих других; только тогда мы поймем настоящий смысл бесчисленного множества сказаний о чудном коне, который спасает героев, борющихся с чудовищами, причем между прочим, нам станет понятным и громадное значение индуистских Асвинов, рожденных от родителей, превратившихся в лошадей, и происхождение Кентавров и т. п. загадочных существ. Можно сказать, что почти вся греческая мифология состоит преимущественно из подобных рассказов, мотивирующих переход от одного культа к другому. При этом следует заметить, что элементы, из которых они сложились, получали новый смысл без всяких сознательных метафор, без всяких натяжек, а напротив самым естественным образом, точно так же, как и всякое слово с течением времени меняет незаметно свое первоначальное значение. Я думаю обосновать и пояснить эту мысль достаточным количеством примеров. Во всяком случае, она кажется заслуживающей проверки.
Всё это делает, на мой взгляд, необходимым изучить прежде всего как можно тщательнее все следы первобытной дикости и в особенности людоедства.
В настоящей статье я старался представить обзор данных, свидетельствующих об употреблении черепов вместо чаш, и вообще об утилизации человеческих костей. Следующую статью я намерен посвятить рассмотрению сказаний о «певучих костях» и «вещих головах», т. е. о приготовлении музыкальных инструментов из частей человеческого тела, с тем, чтобы затем приступить к вопросу о замене человеческой жертвы «символом человека» в связи с вопросом об обрядах, которыми сопровождалась эта замена.
2. Неприкосновенность умерших и утилизация трупа. Скифы: полотенца, чехлы для колчанов и черпаки из человечьей кожи; чаши из черепов; мертвые всадники. Погребальный обычай Патагонцев.
De mortuis nil nisi bene! Этот возвышенный взгляд, общий всем цивилизованным народам, успел уже в глубокой древности вызвать законы, налагавшие иногда большее наказание за оскорбление чести умершего человека, чем за оскорбление живого. Замечательно однако, что, несмотря на то признание, которым он пользовался в продолжение стольких тысячелетий, ему до сих пор не удалось окончательно вытеснить и заменить собой соответствующие более грубые и, очевидно, более древние понятия — о неприкосновенности мертвого тела. Как глубоко укоренились эти последние в сознании народов, об этом свидетельствует наглядным образом, между прочим, история анатомии. Как жестоко ни обращались древние медики с телом живого человека, которого они резали и жгли «для его же собственной пользы» самым немилосердным образом: с минуты смерти это самое тело становилось неприкосновенным, и разрезывать его, хотя бы и для ученых целей и для пользы всего человечества, считалось уже возмутительным святотатством. Сжигалось ли тело предварительно, или нет, во всяком случае «прах» усопшего предавался земле, и каждый Грек и Римлянин, увидя случайно на поверхности земли человеческие кости, считал святейшим долгом прикрыть их хоть двумя-тремя горстями земли. Неудивительно после этого, что еще Гален, во II в. по Р. Х., мог изучать человеческий скелет только в Александрии, и что впоследствии ему только два раза удалось видеть скелет человека: один — смытый водой из могилы, другой — непохороненный труп преступника, полусъеденный хищными птицами. Из христианских времен можно указать на знаменитую буллу Бонифация VIII de sepuluris, изданную в 1300 г., которая за рассекание трупов и вываривание человеческих костей грозила отлучением от церкви. Таким образом, анатомия очень долго считалась безбожным и противоестественным нововведением. Кто следил за новейшими попытками восстановить древний обычай трупосожжения, тот знает, что и этому последнему, несмотря на всю его рациональность, приходится бороться в настоящее время с такими же затруднениями.
Мы знаем, что воззрения, выработанные лишь с течением культурного развития, проникают иногда так глубоко в сознание народов и ложатся в основание такого множества инстинктов, что кажутся потом вытекающими, как говорят, «из самой природы человека». Такое значение, между прочим, имел в свое время и тот самый обычай трупосожжения, который является нам теперь столь противоестественным. Чтобы убедиться, как тяжело было язычеству расстаться с этим священным обычаем, унаследованным из древнейших времен, стоит только взглянуть на трогательные примеры глубокой грусти язычников при устранении его христианством, или, всего проще, стоит только вспомнить гениальное стихотворение Гёте, «Коринфская невеста». Подобный пример представляет в настоящее время привязанность некоторых народов к обычаю умерщвлять и хоронить вместе с умершим его вдов, его друзей и рабов, — обычая, для нас столь неестественного, и столь естественного там, где он укоренился.
Если бы не подобные примеры, то можно было бы подумать, что наш принцип неприкосновенности умерших вытекает непосредственно из глубины общей всему человечеству природы, что основанием служат для него самые первобытные инстинкты, отрицание которых может явиться лишь результатом своего рода «культуры», которую мы вообще так склонны считать виновницей всякого «уклонения от природы». В таком случае, видя уже в рассекании и сжигании трупов уклонение нашей цивилизации от природы, мы должны были бы признать утилизацию человеческого тела для чисто эфемерных целей окончательно плодом «перезревшей культуры». Подобного рода попытки действительно представляются нам прежде всего в этом виде. Так напр. Гоффманн фон Фаллерслебен в одном юмористическом стихотворении замечает насмешливо, что нет уже ничего, чем бы люди не воспользовались на своем пути прогресса: «употребляется в дело весь человек, его испражнения и даже его жир — для приготовления свечей!»