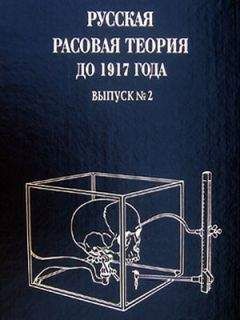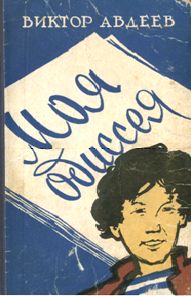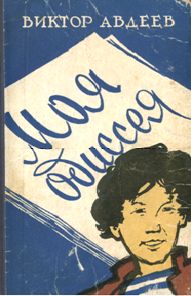4. Русская людоедская загадка. Соответствующая чешская сказка. Сказки о Василисе Прекрасной. Черепы и кости человеческие в культе Бабы-Яги.
После того, что нами рассмотрено выше, для нас получают особое значение те данные из песней и сказок славянских, которыми мы теперь заключим наше беглое обозрение. При этом я должен заметить, что, будучи мало знаком с народными произведениями славянской словесности, могу привести только то, на что натолкнулся, так сказать, случайно.
В моем «Каннибализме» я уже имел случай привести следующую песню:
Я из рук, из ног коровать смощу,
Из буйной головы яндовускую,
Из глаз его я чару солью,
Из крови его пьяно пиво сварю,
(вар. Из мяса его прирогов напеку)
А из сала его я свечей налью,
Созову я беседу подружек своих,
Я подружек своих и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую:
Ой, и что таково:
На милом я сижу,
На милова гляжу,
Я милым подношу,
Милым подчиваю.
А и мил предо мной
Что свечою горит?
Никто той загадки не отдгадывает.
Отгадала загадку подружка одна,
Подружка одна, то сестрица его.
— «А я тебе, братец, говаривала,
Не ходи, братец поздным поздно,
Поздным поздно, поздно вечера».
Ссылаясь на то, что мной сказано об этой песне в «Каннибализме», я могу здесь ограничиться приведением только следующих слов Хомякова, высказанных по поводу ее. «Отрицать ее подлинности нельзя, хотя бы даже она была только местной, но такая же точно песня записана и в других местностях, следовательно, она довольно общая в Великорусской земле. Предполагать позднейшее изобретение нет причин, ни по тону, ни по содержанию: окончание загадкой как будто указывает на древность». Категорически отрицая бытовое значение этой песни, Хомяков видит в ней «изломанную и изуродованную космогоническую повесть, в которой богиня сидит на разбросанных членах убитого ею (также божественного) человекообразного принципа».
Главная причина ложного понятия, которое себе составил Хомяков об этой песне, кроется в предположении, что женщина, загадывающая загадку, сама убила своего «милого», против чего я уже высказался в моем сочинении. Не видя в ней отпечатка страсти, он, конечно, был прав не считать ее «гнусным выражением злой страсти, доведенной до исступления». Но не следовало только утверждать, «что, как песня, эта песня не имеет ни смысла, ни объяснения», что она «невозможна психически». Она очень возможна психически, если мы только отнесем ее происхождение во времена, когда еще каннибализм существовал в полнейшей силе, когда упоминаемые в песне факты сами по себе не представляли ровно ничего предосудительного.
Это предположение я могу теперь подтвердить одной чешской сказкой, которая содержит в себе вариант нашей песни. Позволю себе привести эту сказку в том виде, в каком она передается Креком в его «Введении в историю славянской словесности», появившемся одновременно с моим «Каннибализмом».
«Весть о красоте одной молодой королевны привела ко двору короля много молодых людей, просивших ее руки. Между ними были два королевича, которые особенно понравились ей. Так как она не могла выйти замуж за обоих вместе, то решилась, наконец, в пользу одного из них, другому же отказала. Тот, получив отказ, подумал: «Если бы не было этого другого, то выбор выпал бы на меня. Убью же его, и она будет тогда моею». Сказано — сделано. Однажды, когда любимец королевны охотился в лесу, другой королевич убил его коварным образом. Королевна стала сильно грустить. Но она не показывала виду, решившись отомстить за смерть возлюбленного. Она велела себе на память сделать из черепа убитого чашу (или бокал), красиво оправленную в золото и драгоценные камни; из костей рук его, чтобы постоянно иметь его пред глазами, она велела сделать четыре прекрасных подсвечника; из ног его — ножки стула; а из длинных прекрасных волос его она сама себе сделала пояс, вышитый золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Скоро после этого второй королевич обратился к ней со своим предложением и просил не медлить с ответом. «Хорошо, — ответила королевна, — приходи завтра на ужин; я загадаю тебе загадку; если тебе удастся отгадать ее, то буду твоей женой; в противоположном же случае ты должен лишиться головы». «Что это за загадка, которой бы я не разгадал?» — подумал про себя королевич, и в следующий день вечером явился. В одной из комнат ужин был уже подан. Королевна сидела на своем стуле, опоясанная волосяным поясом, пила из своей чаши, и на столе горели свечи в четырех подсвечниках. После ужина королевич попросил загадать загадку. «Слушай же и отвечай:
На любви сижу,
На любовь гляжу,
Любовью опоясываюсь,
Из любви пью твое здоровье».
«Загадка хороша, — говорит королевич, — лучше и быть не может. Садись на мои колена, я обниму тебя руками, смотри мне ласково в глаза и поцелуй меня, и загадка превратится в действительность: твоя любовь — это я». «Твой ответ неверен, — сказала гневно королевна, встала и указала на свой стул: — Вот я сижу на ногах моей любви, которую ты убил коварным образом». Указывая поочередно на подсвечники, пояс и чашу, она сказала: «Вот, я смотрю на руки моей любви; вот, пояс из ее прекрасных волос; и вот, из ее черепа я пью твое здоровье. — В отомщение: голова за голову!». Немедленно она созвала своих слуг, которые, схватив королевича, отрубили ему голову. Королевна же решилась с той поры не выходить ни за кого замуж и осталась весь век незамужнею».
Эту сказку Крек приводит как пример бытовой сказки. Ее основная идея состоит, по Креку, в том, чтобы показать, что в старину из черепов умерших лиц делали бокалы. Мне же, напротив, кажется, что эта сказка передает лишь отдельный эпизод какого-либо старинного сказания, основная идея которого никак не могла состоять именно в том, что в свое время не представляло ничего особенного. Интерес, вероятно, был сосредоточен на характере королевны, на ее беспредельной любви к возлюбленному, ее скорби после его смерти и ее мудрости, обнаружившейся в умении придумать такую хитрую загадку. Но как бы то ни было, для нас важно, что и Крек не отрицает бытового значения подобных рассказов. Он считает ясным до очевидности, что употребление черепов вместо чаш было в обычае Германцев и Славян. Только вопрос о появлении этого обычая он считает неразрешимым. Относительно Славян Крек находит возможным допустить даже заимствование от Скифов.
Я полагаю однако, что мы имеем теперь достаточное основание, чтобы отрицать заимствование от Скифов. Особенно вышеприведенная русская песня, при всей своей отрывочности, дышит такой наивностью, людоедство представляется в ней в такой первобытной чистоте и, так сказать, невинности, что о заимствовании от другого народа, тем более, если этот последний считать иноплеменным, не может быть и речи. Напротив, всё ведет к тому, что в нашей песне следует усматривать один из драгоценнейших остатков глубочайшей старины, — времени до разъединения индогерманской семьи. При некотором умении пользоваться народными преданиями в совокупности с данными истории, или точнее, при нежелании извращать смысл этих данных, мы находим множество явных следов существования каннибализма у всех индогерманских народов: Индийцев, Греков, Римлян, Кельтов, Германцев, Славян. Даже в Зендавесте, памятнике особенно скудном в рассматриваемом отношении, мы читаем между прочим следующее:
«Создатель! Когда бывают чисты те люди, о чистый Агурамазда, которые ели труп мертвой собаки или мертвого человека?»
На это ответил Агурамазда: «Они нечисты, о чистый Заратустра».
«Эти люди созданы для пещер» и т. д.
Итак, вопрос не в том, существовал ли вообще когда-либо у наших предков каннибализм. Он существовал несомненно. Вопрос может заключаться только в том, до каких пор он удержался, и каким образом, и вследствие каких обстоятельств в памяти народа могли сохранится те многочисленные следы, которые о нем свидетельствуют. По отношению к Славянам эти вопросы можно формулировать напр. следующим образом: существовал ли еще каннибализм у Славян после их отделения от Германцев и Литовцев, и, если существовал, то в какой мере?
В пользу утвердительного ответа на первый из этих вопросов, можно было бы сослаться на следующую песню, если бы не подлежало сомнению славянское происхождение одного из тех двух прикарпатских племен, к которым она относится. Вот она:
Гуцуле, Гуцуленко,
Де вы Бойка дiлы?
Чи сварылы, чи спеклы,
Чи сырого съiлы?
— Не сварилы, не спеклы,
Не сырого съiлы:
Пiйшов Бойко в полоныну
Да го вовки съiлы.
Гуцулы и Бойки — это два соседние племени в Галиции, говорящие на почти одном и том же наречии русинском, но крайне отличающиеся между собой характером и сильно недолюбливающие друг друга. Боек робок, неразвязен, но зато трудолюбив; Гуцул, наоборот, смел, отважен, но ленив. А. А. Кочубинский, у которого я заимствую эти указания вместе с приведенной песней, считает Гуцулов русскими горцами, между тем, как Вагилевич, по словам г. Кочубинского, один из лучших знатоков галицкой этнографии, считал их потомками Узов, в доказательство чего приведены им веские лингвистические доказательства.