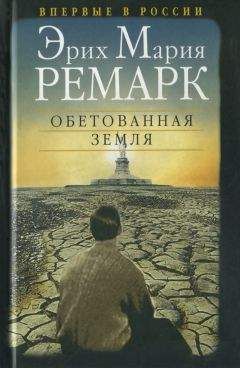Вдруг послышались шаги. Из темноты за моей спиной выросли два полицейских. Прежде чем я успел задаться вопросом, бежать мне или нет, они уже были рядом со мной. Я застыл как вкопанный.
— Что вы здесь делаете? — спокойно спросил меня один из полицейских, тот, что был ростом повыше.
— Гуляю, — ответил я.
— Здесь, в парке, ночью? Зачем?
Я не знал, что сказать.
— Документы? — потребовал второй полицейский.
Паспорт Зоммера у меня был с собой. Они изучали его при свете карманного фонарики.
— Значит, вы не американец? — снова заговорил второй полицейский.
— Нет.
— Где вы живете?
— В гостинице «Рауш».
— Вы недавно в Нью-Йорке? — спросил долговязый.
— Да, недавно.
Коротышка по-прежнему вертел в руках мой паспорт. Я чувствовал противное посасывание под ложечкой, хорошо известное мне за последние десять лет по встречам с полицией. Я отвел взгляд в сторону и стал рассматривать карусель и лакированного скакуна в вечном протесте, взвившегося на дыбы перед носом позолоченной гондолы, а потом поднял глаза к звездному небу над головой. Вот будет странно, думал я, если меня посадят в тюрьму как немецкого шпиона. Между тем коротышка все еще листал мой паспорт.
— Ну что, разобрался? — спросил долговязый.
— Кажется, он не грабитель, Джим.
Джим молчал. Его напарник начал терять терпение:
— Пойдем дальше, Джим.
Он обратился ко мне:
— Вы разве не знаете, что бродить здесь одному по ночам опасно?
Я покачал головой. У меня были совсем другие понятия об опасности. Я снова взглянул на карусель.
— По ночам здесь шляется совсем особый народ, — объяснил долговязый. — Воры, карманники и прочая шваль. Каждую минуту тут что-нибудь случается. Или вы хотите, чтобы вас искалечили?
Он засмеялся. Я молча стоял, не отрывая взгляда от паспорта, который оставался в руках у коротышки. Я понимал, что без этого паспорта никогда не смогу вернуться в Европу.
— Пойдемте с нами, — наконец сказал Джим. Паспорт он мне так и не отдал.
Я последовал за ними. Мы подошли к полицейскому автомобилю, стоявшему у края аллеи.
— Садитесь, — велел Джим.
Я сел на заднее сиденье. В голове у меня было пусто.
Вскоре мы выехали из парка на Пятьдесят девятую улицу. Машина остановилась. Джим обернулся назад и вручил мне паспорт.
— Значит, так, приятель, — сказал он. — Можете здесь выходить. А то мало ли кто вам в парке встретится.
Оба полицейских рассмеялись.
— Мы, понимаешь, гуманисты, — заявил Джим. — Большие гуманисты, приятель. В рамках разумного.
Я вдруг почувствовал, что мой затылок стал мокрым от пота, и механически кивнул.
— Скажите, утренние газеты уже вышли? — спросил я.
— Да. Этот ублюдок выжил. Ублюдкам всегда везет.
Я пошел вдоль по улице, мимо отеля «Сент-Мориц» с его небольшим палисадником, где были расставлены несколько столов и стульев. Нигде больше я такого в Нью-Йорке не видел. Таких уличных кафе с газетами, как в Париже, Вене или даже любом захолустном европейском городке, в Нью-Йорке не было. Должно быть, у здешних жителей не хватало времени на такие пустяки.
Я подошел к газетному киоску. Внезапно на меня навалилась усталость. Я пробежал глазами первые страницы. Гитлер не погиб. Все прочие новости были противоречивы. Военный мятеж в Германии то ли был, то ли нет. Кажется, Берлин все еще оставался в руках повстанцев. Но предводители восстания уже были арестованы верными гитлеровскими генералами. А Гитлер был жив. Он у власти и уже отдал приказ повесить всех бунтарей.
— Когда выйдут следующие газеты? — спросил я.
— Завтра в полдень. Дневные газеты. А это уже утренние.
Я растерянно глядел на продавца.
— Радио, — сказал он. — Включите свой приемник. По радио всю ночь передают последние новости.
— Ну конечно!
Радио у меня не было. Но у Мойкова оно имелось. Может быть, Мойков уже вернулся. Я поймал такси и поехал к себе в гостиницу — я был слишком обессилен, чтобы идти пешком. К тому же я хотел поскорее добраться до места. Я весь дрожал от нетерпения, и в то же время я чувствовал странную безучастность ко всему, как если бы все звуки и прочие чувства доходили до меня через толстый слой ваты.
Мойков был в гостинице. Выяснилось, что он никуда не уходил.
— Здесь был Хирш, — сообщил он.
— Когда?
— Два часа назад.
Как раз в это время я стучал в дверь его квартиры.
— Он передал что-нибудь?
В ответ Мойков указал на радиоприемник, сиявший хромированными кнопками.
— Он принес тебе вот этот приемник. «Зенит» — очень хороший аппарат. Сказал, что сегодня он тебе пригодится.
Я кивнул:
— А больше он ничего не сказал?
— Он ушел полчаса назад. Был очень взволнован, но полон пессимизма. Заявил, что у немцев не получилось еще ни одной революции. Даже порядочного восстания. Их бог — это порядок и дисциплина, а не совесть. О покушении он сказал, что это военный мятеж и что подняли его не потому, что нацисты уничтожили миллионы людей и превратили права и законы в кровавый фарс, а потому, что они проиграли войну. Мы вместе с ним слушали новости, а полчаса назад, когда сообщили, что Гитлер жив и взывает о мести, Хирш не выдержал и ушел. Приемник он оставил тебе.
— С тех пор были какие-нибудь новости?
— Гитлер собирается выступить с речью. Хочет убедить народ, будто его спасло само Провидение.
— Естественно. А про войска на фронте что слышно?
Мойков покачал головой:
— Ничего, Людвиг. Война продолжается.
Я кивнул. Мойков пристально посмотрел на меня:
— На тебе лица нет. Мы с Хиршем распили бутылку водки. Но с тобой я готов выпить еще одну. Эта ночь — самое подходящее время для нервных срывов. Или для выпивки.
Но я решил отказаться:
— Нет, Владимир. Я устал до смерти. Но радио я заберу с собой. У меня в номере есть розетка?
— Она тебе не потребуется. Это переносной приемник. — Мойков все еще не отрывал от меня взгляда. — Не дури, выпей хоть немного. И еще вот это…
Он разжал свою громадную руку. На ладони лежали две таблетки.
— Снотворное. Завтра с утра будет время разобраться, где правда, а где ложь. Послушайся старого эмигранта, который десять раз тешил себя теми же надеждами, что и ты, и одиннадцать раз их хоронил.
— Думаешь, и на этот раз ничем хорошим не кончится?
— Завтра видно будет. По ночам надежда навевает странные фантазии. По себе знаю: порою даже убийца может превратиться в героя, если он выступит за, а не против тебя. Эти игры я давно бросил — лучше уж снова верить в десять заповедей. Они и так достаточно несовершенны.
В холле показалась тень женщины. Это была дама преклонных лет с кожей, похожей на серую, мятую папиросную бумагу. Мойков встал:
— Вам что-нибудь нужно, графиня?
Тень торопливо закивала:
— Сердечную настоечку, Владимир Иванович. Моя вся вышла. Эти июльские ночи! Никак не спится. Все вспоминаешь петербургские ночи в пятнадцатом году. Бедный государь!
Мойков вручил ей маленькую бутылочку водки.
— Вот ваша настойка, графиня. Доброй ночи, спите спокойно!
— Я постараюсь.
Тень выскользнула из холла. На ней было старомодное серое кружевное платье с рюшами.
— Она живет только прошлым, — заметил Мойков. — Время остановилось для нее после революции семнадцатого года. В тот год она и умерла, только до сих пор не знает об этом. — Он пристально посмотрел на меня. — А за эти тридцать лет случилось слишком много всего, Людвиг. И никакой справедливости в этом кровавом прошлом не было и нет. Иначе пришлось бы истребить полмира. Поверь мне, старику, который когда-то думал так же, как ты.
Я взял радиоприемник и поднялся к себе в номер. Окна комнаты были открыты. На тумбочке стояла китайская бронза. Как бесконечно давно это все было, подумал я. Я поставил радио рядом с вазой и уселся слушать новости, которые передавали нерегулярно и зачитывали неразборчивой скороговоркой в перерывах между джазом и рекламой виски, туалетной бумаги, кольдкрема, летних распродаж, бензина и фешенебельных кладбищ с песчаным грунтом и красивыми видами. Я попытался поймать какую-нибудь заморскую радиостанцию, Англию или Африку; время от времени мне это даже почти удавалось: я разбирал несколько слов, но потом все снова тонуло в неясном треске — то ли шторм бушевал над океаном, то ли гроза разразилась за горизонтом, а может, то были отголоски далеких сражений.
Я встал с кровати и долго смотрел из окна, за которым развесила свои яркие звезды безмолвная июльская ночь. Наконец я снова включил приемник, из которого хлынула бестолковая смесь рекламы с трагедией, причем единственная разница меж ними состояла в том, что реклама становилась все громче и навязчивее, а новости — все хуже и хуже.