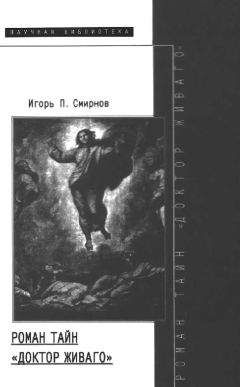Прибыв в Юрятин, Комаровский восхваляет там будущее Сибири:
— Сибирь, эта поистине Новая Америка, как ее называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления.
(3, 417)
Конечно, эта тирада имеет в виду, в первую очередь, стихи Блока о Сибири: «Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда… То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда!»[171] Но равным образом она отправляет нас и к утопии Бэкона как к претексту Блока. Старая Атлантида, по Бэкону, это — Америка, стертая с лица земли потопом, чьей изначальной цивилизации наследует вторая Америка, Новая Атлантида.
2.3.
Мы вернемся к Бэкону чуть позднее, а пока суммируем сказанное о Юрятине и Барыкине.
Юрий Живаго двойственен. По дороге в Варыкино он обрушивается в споре с Самдевятовым на марксизм, порицая эту философию как утопическую:
Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм.
(3, 257)
С другой стороны, Живаго не исключается Пастернаком из общего утопизма эпохи не только в главах о Февральской революции, но и тогда, когда речь в романе заходит о большевистском периоде. Пастернаковский герой, бегущий из революционной Москвы на Урал, не может на деле занять позицию вне утопического мира — его тяга к земле заимствована у Мора, выбранные им места новой жизни воссоздают утопические модели Кампанеллы и Бэкона.
Пастернак всячески компрометирует утопизм. Если на Западном фронте его следствием было убийство ни в чем не повинного Гинца, то пребывание Живаго на Урале и в Зауралье завершается деградацией героя. Бывший дворник семейства Громеко, Маркел, пеняет Юрию, объявившемуся вновь в Москве, за то, что он не был верен своему месту, предпочел насиженной жизни поиск другого пространства обитания (т. е., в конечном счете, критикует своего будущего зятя за выбор им ложного топоса, за y-топизм):
А нешто я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вот мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели, не пошатнулись, и целы.
(3, 471)
Маркел — философ, как и остальные персонажи романа, он цитирует ни много ни мало — «Мысли» Паскаля, который выводил все людские несчастья из того, что мы не можем усидеть дома:
Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d′entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vienl d′une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre[172].
Пастернаковский дворник тезоименен рано умершему, как и Паскаль, и, как он, религиозно настроенному брату Зосимы, Маркелу, из «Братьев Карамазовых». Пустой, неизвестно, по каким причинам (ср. загадку без ответа в «Цветке» Пушкина), дом предстает Юрию Живаго, когда он перебирается на Урал:
На горе стоял одинокий, отовсюду открытый дом […]
Жил ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волостным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними сталось? Скрылись ли они за границу? Погибли ли они от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами?
(3, 228–229)
Полемизируя с утопиями Мора и Бэкона, Пастернак вплетает в описание Варыкина реминисценцию из антиутопии О. Хаксли «Brave New World». Сын Тони и Юрия, Шурочка, капризничает, попав в Варыкино:
Шурочка […] был не в своей тарелке […] Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям.
(3, 271)
Английский утопический этатизм прослеживается Пастернаком вплоть до его превращения в собственную противоположность у Хаксли (очень модного в СССР в начале 30-х гг.). Словосочетание «детишный магазин» калькирует название учреждения, где в романе Хаксли искусственно создаются люди утопического времени: «the Embryo Store»[173].
2.4.
Пастернак уделяет Бэкону в своем романе повышенное внимание[174]. В «Докторе Живаго» учитывается наряду с «Новой Атлантидой» и «Новый Органон». Выстраивая сцену смерти Юрия, Пастернак исходит из известной притчи о ложном и истинном методах познания, изложенной в «Новом Органоне». Даже калека, если он выбрал правильную дорогу, писал Бэкон, обгонит скорохода («cursor»), который движется непутем (= «extra viam»)[175]. Дряхлая мадемуазель Флери, направляющаяся в швейцарское посольство за визой для эмиграции на Запад, опережает на своих двоих (она, по выражению Пастернака, «плетется» (3, 483)) Юрия, севшего в аварийный трамвай:
И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его.
(3, 485)[176]
Бэкон вставляет свою параболу в рассуждения об Идоле театра, т. е. теории философских догматов, принимаемых на веру. Живаго не избавлен, хочет сказать нам Пастернак, от поклонения этому Идолу и проигрывает из-за того жизненное соревнование с девственным, неискушенным существом, которым мог бы быть и он сам, останься он верен своей первоначальной непорочности, тому «неистовству чистоты» (3, 42), о котором думал Веденяпин. Пародируя «Новую Атлантиду», Пастернак, с другой стороны, принимает проведенную Бэконом критику сознания, противопоставляет Бэкона-утописта Бэкону-гносеологу, предшественнику Гуссерля с его «трансцендентальной редукцией».
3. «Политейа» и зауральская партизанщина
(государственные утопии)
(продолжение)
3.1.1.
Изображение партизан в «Докторе Живаго» по меньшей мере трехслойно в интертекстуальном плане. Первый пласт здесь образуют заимствования (отчасти уже исследованные) из документальных свидетельств и научной литературы о гражданской войне на Урале и в Сибири[177].
3.1.2.1.
Вторым слоем являются многочисленные реминисценции из художественных текстов о сибирской и дальневосточной партизанщине.
Завязка партизанской карьеры Терентия Галузина перекочевала в пастернаковский роман из повести Вс. Иванова «Партизаны» (1920–1921). Иванов рассказывает о том, как плотник Кубдя подряжается строить амбары в Улалейском монастыре. Во время церковного праздника в деревню прибывают два милиционера, которые разрушают самогонный аппарат. Чтобы попугать блюстителей порядка, пьяный Кубдя стреляет в их сторону, не желая причинить им вред, но случайно убивает одного из них. После этого события плотнику приходится скрыться и волей-неволей примкнуть к партизанскому движению.
По образцу Кубди Терентий становится партизаном вовсе не из-за политических убеждений. На Пасху в Кутейном Посаде и Малом Ермолае ведется набор рекрутов в колчаковскую армию. Пьют самогон. Неизвестный, воспользовавшись скандалом на призывном пункте, бросает фанату в волостное правление. Милиционеры безуспешно разыскивают провокатора (эта невыясненность обстоятельств взывает к интертекстуальной догадливости читателей). Молодые люди, подлежащие набору, и среди них — Терентий, прячутся, не зная за собой вины, а затем бегут к партизанам[178].
Дальнейшая судьба Терентия контрафактурна относительно биографии заглавного героя из историко-революционной поэмы Асеева «Семен Проскаков» (1927–1928). За участие в заговоре против Ливерия Микулицына Терентий подлежит расстрелу, но, будучи лишь раненным, выползает из-под трупов, скитается по тайге и в конце концов выдает советским властям повстречавшегося ему Стрельникова. Проскакова, напротив, недорасстреляли белые; впрочем, он и Терентий — равно заговорщики, хотя как таковые и принадлежат к разным политическим полюсам, — ср. один из эпиграфов в поэме Асеева, цитирующий документы Архива Истпрофа ЦК Союза горнорабочих:
Вот я, Проскаков Семен Ильич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Моховой […] Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырая земля и приняла в себя кровожадную пулю и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде…[179]