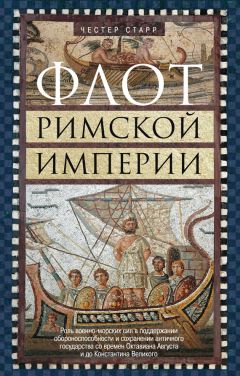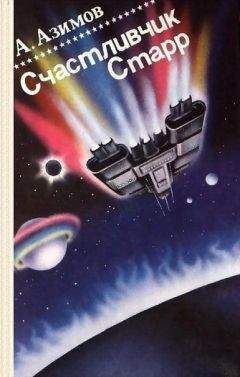Хотя Апион, возможно, надеялся на «быстрое повышение», по крайней мере на начальные ступени военной или морской иерархии на борту триремы, продвижение даже на должность триерарха было невозможным. Он, скорее всего, провел десятилетие или больший период времени в подчиненном положении рядового. Отдельное повышение в жалованье было возможно, ибо имеются указания на sesquipliciarii, военнослужащих, получавших полуторную плату от основного жалованья. Имеются многочисленные упоминания dupliciarii, о военнослужащих, получавших «двойную» плату. К сожалению, нет надежных данных о самом основном жалованье. Возможно, моряки получали ту же плату, что и auxiliaries, то есть сотню денариев в год в период правления Домициана до Коммода.[270] Премия рекрута в три aurei[271] или семьдесят пять денариев,[272] которую получил Апион, могла, однако, представлять собой первоначальный бонус в виде годового жалованья.
Жизнь моряка в каждодневных заботах освещается недостаточно. В благоприятный сезон итальянские флоты, вероятно, находились чаще всего в море, совершенствуя искусство гребли, занимаясь транспортировкой знатных лиц к местам службы в провинциях или помогая в снабжении и перевозке воинских частей, преследуя время от времени сохранившихся пиратов, как свидетельствуют документы.[273]
В Риме и повсюду вдоль побережья дислоцировались отряды для охраны и курьерской службы. В беспокойные времена Филиппа другие моряки охраняли от разбойников Фламиниеву дорогу.[274] Возможно, моряки итальянского флота отряжались на строительство акведуков, каналов и прочие работы, но свидетельства этого отсутствуют.
Такие задачи, наряду с рутинным обслуживанием арсенала и верфей, должно быть, оставляли морякам много свободного времени, каким бы, возможно, ни показывалось порой мрачное предсказание астролога «torquebuntur et habebunt vitam semper in navibus» («вечно мучиться и жить на кораблях») усталым гребцам.[275] Зимой, когда военные корабли были в основном на приколе, моряки, возможно, подрабатывали разными способами на стороне. Как бы то ни было, немалое число моряков имело достаточно средств, чтобы купить раба или очень редко – двух.[276] Временами они промышляли торговлей военнопленными. Семилетний раб из Месопотамии, которого К. Юлий Приск, моряк с триремы Tigris, продал C. Фабуллу Масеру, optio, с того же корабля в Селевкии в 166 году, вероятно, был пленником, захваченным во время Парфянской войны. Гораздо чаще, однако, такие сделки совершались по коммерческим каналам. Так было в случае с Т. Меммием Монтаном с Равеннского флота, который приобрел взрослую африканскую рабыню за шестьсот двадцать пять денариев у милетского работорговца. Рабыня чаще всего служила наложницей, а иногда освобождалась, чтобы стать женой моряка. Рабы мужского пола представляли собой инвестиционный капитал моряка, от которого тот ожидал прибыли либо в виде большей платы после взросления раба, либо немедленной выгоды, если раб владел ремеслом.[277]
Обилие завещаний моряков выражает главным образом страстное желание позаботиться о своих останках и остаться в памяти потомства, которое сохранило для нас большинство эпиграфических свидетельств. Часто могильная плита сообщает, что покойный заказывал поставить себе памятник по завещанию, «testamento fieri iussit» («приказал включить в завещание»), и иногда моряк не только давал распоряжение похоронить себя как следует, но также определял размер денежной суммы на похороны.[278] Помимо этого, однако, завещание моряка, случалось, имело дело с другими вопросами, которые свидетельствовали о владении им хотя бы скромными средствами. С. Лонгиний Кастор, ветеран Мизенского флота из Карана в Египте, освободивший трех рабов, оставил по завещанию родственнику четыре тысячи сестерциев и распорядился передать ему пять с четвертью арур пахотной земли в дополнение к дому и саду. Несколько лет назад он был наследником другого моряка, который оставил наследство в две тысячи драхм. Временами наследник-попечитель выполнял последнюю волю завещателя и опекал оставшееся имущество для передачи детям.[279]
Юридические источники показывают, что солдат, по крайней мере с конца I столетия н. э., имел широкие привилегии в области завещательного права. Он не нуждался в изъявлении своей воли в письменном виде, требовалось одно лишь устное заявление о намерении, и любой человек, за малыми исключениями, мог быть признан наследником.[280] Обычно наследником был приятель-моряк того же корабля или другого. Даже тогда, когда моряк оставлял имущество жене или детям, он нередко выступал сонаследником с ними, иногда был единственным наследником.[281] Повторение таких понятий, как substitutus heres (заменяющий наследник) и secundus heres (второй наследник), заслуживает внимания как напоминание об опасной жизни моряка. Поскольку первый наследник мог умереть раньше своего бенефициара, объявлялся возможный наследник.[282] Если бы наследник отсутствовал во время смерти друга, триерарх или другой корабельный начальник мог выступить вместо него на похоронах. Один памятник носит надпись «curante Sulpicio Prisco optione III Jove», наследники находились на триреме Mercurius и квадриреме Minerva.[283]
Даже если моряк не оставил никакого имущества, его вовсе не обязательно забывали. Родители и братья могли заботливо обозначить его могилу для потомства. Могли также обнаружиться благочестивая сестра, благодарные вольноотпущенники, мужчины и женщины. Последние, обычно наложницы, часто посвящали каменные памятники своим благодетелям, а одна гордо обозначает «de pecunia sua» («на свои деньги»). Разнообразие людей, установивших памятники, – жена и вольноотпущенник, вольноотпущенник и брат, двое детей и вольноотпущенник – свидетельствует о глубоких личных связях, которые завязал моряк в период своей службы.[284]
В обилии завещаний моряков можно обнаружить узы взаимных интересов, существовавшие внутри определенных категорий морских офицеров. Nauphylax (командир рабочих арсенала) опекал сына другого nauphylax. Armorum custos (моряк, ответственный за содержание оружия в боеспособном состоянии) одного корабля сделал своими наследниками двух armorum custodes другого корабля и т. д.[285] Такие чувства даже приобретали более конкретное выражение в коллегиях (collegia) офицеров. Нельзя совсем сбрасывать со счета профессиональный аспект таких сообществ, но, очевидно, основной причиной формирования collegia была взаимная выгода от привилегий в захоронениях и объединения ради социального общения. Ordo proretarum (общество помощников рулевого), как наследник, установило каменную плиту одному из своих усопших членов, armaturae (морпех) приобрел к 159 году н. э. schola или присутственное место, artifices (художники) из Мизенума объединились в factio (клуб) под руководством optio (помощник центуриона). Даже обыкновенные матросы могли быть принятыми в sodales ex classe praetoria Ravennati (члены претории флота Равенны), а в Мизенуме группа ingenui et veterani corporati (сообщество свободных и ветеранов) заняла особое место в жизни колонии.[286] Казарменная жизнь меняется, но очень медленно, в течение веков. Моряки создавали специализированные и общие группы, и хотя гарнизоны лагерей в Мизенуме или Равенне, наряду с ветеранами, доминировали в жизни этих городов, они оставались несколько обособленными даже в сфере захоронений.[287]
Тем не менее смесь элинизированных уроженцев Востока и полуроманизированных пришельцев с Балканского полуострова в космополитическом центре империи дала толчок к дальнейшей романизации, о которой уже вкратце упоминалось. Самим актом поступления на военную службу добровольцы демонстрировали свою открытость для перемен, которая помогала усвоению новой культуры. Что касается неуступчивых призывников, их местные особенности быстро стирались во время службы в лагере и на борту корабля. Это был тяжелый процесс, который произвел по крайней мере внешнее соответствие стандарту окружающей среды Италии. У нас есть показательное письмо Апионастре в Египет через несколько лет после поступления на службу во флот. Он называет себя не иначе как Антоний Максим, имеет жену по имени Ауфидия и трех детей, которых зовут Максим, Эльп и Фортуната – замечательная греческо-латинская смесь. Если раньше он упоминал греко-египетского бога Сераписа, то сейчас молится за благополучие сестры «здешним богам».[288]
Другие моряки, принятые во флот после 71 года, таким же образом отбрасывали свои прежние имена или, в большинстве случаев, употребляли их в надписях как придаток к официальным именам. Например, «T. Suillus Albanus qui et Timotheus Menisci f.».[289] Тем немногим, которые сохраняли свои старые имена, можно противопоставить подавляющее большинство тех, которые с готовностью отказывались от имени отца, выдававшего перегринское происхождение. Юридические документы этих моряков – их завещания, купчие, назначение куратором – строго следуют стандартной римской практике. Исполнение военных или морских обязанностей разрешалось только при использовании латинского языка. Морские надписи почти неизменно выбиваются на латинском языке.[290] Моряки Равенны следовали погребальным обычаям долины реки Пад (По), моряки Мизенума – обычаям западного побережья, и обе группы отражают изменения, которым подвергся латинский язык в народной речи, особенно в использовании интервокального b вместо v в bixit, militabit и тому подобном.[291]