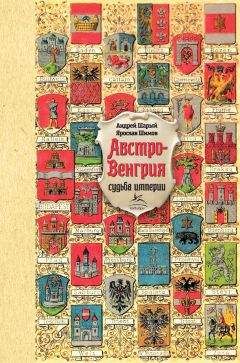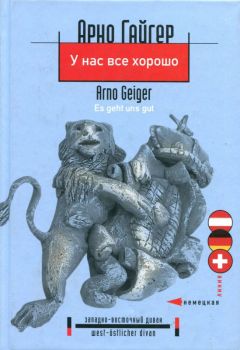Неверно представлять себе Австро-Венгрию как государство, из-за межнациональных противоречий вечно балансировавшее на грани гражданской войны. Да, не раз эти противоречия приводили к острым ситуациям. В Праге из-за чешско-немецких конфликтов дважды (в 1893 и 1897 годах) вводилось чрезвычайное, а один раз (в 1908 году) даже военное положение. В Лемберге (Львове) в мае 1908 года нарушения в ходе предвыборной кампании, связанные с борьбой польской, украинской и русинской (так называемой “москвофильской”) общин за места в рейхсрате, привели к акту политического террора: украинский студент Мирослав Сычинский застрелил императорского наместника графа Анджея Потоцкого[31]. Последовали столкновения поляков и украинцев. Можно привести и другие подобные примеры. Но по сравнению с европейскими соседями пестрая Австро-Венгрия со всеми своими межнациональными неурядицами выглядела спокойной страной. Здесь не было ни кровопролитных социальных конфликтов вроде Парижской коммуны 1871-го или русской революции 1905 года, ни политического террора, схожего по интенсивности с народовольческим или эсеровским, ни переворотов вроде тех, что сотрясали Балканы, Испанию и Португалию. Даже казнили в дунайской монархии на рубеже XIX и XX веков заметно реже, чем в Британии, Франции или России.
До 1914 года, когда мировая война резко обострила все имевшиеся в Австро-Венгрии противоречия, габсбургская государственная традиция и созданная в ее рамках модель политического и национально-культурного равновесия – об этом позволяют ясно судить документы эпохи – представлялась большинству подданных императора пусть не идеальной, но вполне удовлетворительной. Не кто иной, как Томаш Масарик, пражский профессор и депутат рейхсрата, будущий могильщик монархии и первый президент Чехословакии, в 1905 году писал: “Чешская политика не может быть успешной, если ее движущей силой не будет подлинная сильная заинтересованность и забота о дальнейшей судьбе Австрии – причем речь идет не о бессознательной пассивной лояльности, а о культурных и политических усилиях, соответствующих потребностям нашего народа работать во имя совершенствования всей Австрии и ее политического устройства”. А Стефан Цвейг, вспоминая о годах юности, пришедшихся на эпоху Франца Иосифа, называл мир, исчезнувший в пламени Первой мировой, “миром надежности”: “Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, было рассчитано на вечность, и государство – вечный гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, каждая обязанность строго регламентирована… Все в этой обширной империи прочно и незыблемо стояло на своих местах, а надо всем – старый кайзер. И все знали (или надеялись): если ему суждено умереть, то придет другой, и ничего не изменится в благоустроенном порядке”.
Насколько обоснованной была такая уверенность? Казалось бы, крах Австро-Венгрии позволяет нам, самим пережившим крушение другой империи, лишь покачать головой над наивностью последнего поколения габсбургских подданных. Тем не менее слишком много находится свидетельств того, что до рокового лета 1914 года Австро-Венгрия не производила впечатления смертельно больного государства. Единство империи поддерживалось не только силой штыков императорской и королевской армии, не только отлаженной работой бюрократического аппарата, не только силой привычки и почтением к старому монарху, но и осознанием того, что Австро-Венгрия пусть не столь бурно, как бисмарковская Германия или викторианская Британия, но однозначно прогрессировала, в том числе и в политическом отношении.
Лайбах (Любляна). Открытка 1900 года.
Ко второму десятилетию ХХ века у народов Австро-Венгрии, в первую очередь ее западной части, накопился опыт парламентаризма и взаимодействия избранных представителей с главой государства и правительством. После введения в 1907 году в Цислейтании всеобщего избирательного права возможность участвовать в политике получили новые слои населения. Семидесятисемилетний Франц Иосиф проявил неожиданную смелость, допустив в парламент социалистов, на которых он постепенно научился смотреть как на противовес куда более опасным врагам империи – националистам, в том числе австро-немецким, мечтавшим о “воссоединении” населенных немцами габсбургских земель с Германской империей. Социалисты отвечали монарху взаимностью: настаивая на социальных реформах и поддержке неимущих, они в то же время научились сотрудничать с монархией и даже воспринимать ее как естественную (и вдобавок близкую им своим интернационализмом!) форму организации центральноевропейского пространства.
Но расчеты старого императора не оправдались. Социалисты в рейхсрате появились, однако националистов с парламентских скамей не вытеснили. Многие левые, на последовательный интернационализм и лояльность которых рассчитывали при дворе, оказались заражены националистическими настроениями столь же сильно, как их политические противники из либерального лагеря. Демократизация избирательной системы в Цислейтании не выполнила задачу, поставленную Францем Иосифом. Вдобавок оскудел кадровый резерв монархии: на смену искусным, хитрым, харизматичным государственным деятелям, таким, как Эдуард Тааффе (друг детства императора), Эрнст фон Кёрбер и Макс Владимир фон Бек, занимавшим пост главы правительства западной части монархии на рубеже веков, пришли суховатые, прямолинейные бюрократы, которым решить сложные национально-политические проблемы империи было не по силам. Один из таких, как сказали бы сегодня, “технических премьеров”, Карл Штюргк, в конце 1913 года обратился к императору с просьбой распустить рейхсрат, где чешские депутаты, добиваясь расширения национально-культурной автономии, в очередной раз бойкотировали заседания. В марте 1914 года Франц Иосиф удовлетворил пожелание премьера. Через несколько месяцев началась война, и в этих условиях Вена предпочла депутатов не собирать – до самой весны 1917 года, когда на престоле уже был молодой и неопытный Карл I.
К тому времени шанс на политические реформы был упущен: война сделала противоречия между народами неразрешимыми. Но до лета 1914 года – и это важно понять – для Австро-Венгрии оставались открытыми все пути. Мало кому сейчас придет в голову считать “неестественными” и называть “лоскутными” такие государства, как Швейцария, Испания и даже Великобритания, – хотя с этнической, исторической, правовой точек зрения они подчас почти так же разнородны, как монархия Габсбургов, о которой столь часто и столь самоуверенно говорят как о неестественном пережитке прошлого. Рассуждая о проблемах народов Австро-Венгрии, разумнее удовлетвориться открытой концовкой – как это делает французский историк Виктор-Люсьен Тапье: “Нельзя убедительно доказать ни то, что крах габсбургской системы был неизбежен и стал следствием внутренней дезинтеграции; ни то, что ее выживание обеспечили бы центростремительные силы, не испытай монархия удара извне. Речь идет о том же вопросе, который часто задается о Римской империи: стал ли Рим жертвой внутреннего истощения или был убит?”
Будапешт. Венгерский полдень
Весной этот город пахнет фиалками – как благоухают фиалками дамы, фланирующие по променаду над рекой в Пеште. А осенью тон задает Буда. Молчание города нарушают в эту пору лишь далекие звуки военного оркестра из беседки на другом берегу да стук падающих на тропинки у замка случайных каштанов. Осень и Буда рождены одной матерью.
Дьюла Круди. Подсолнух
В Будапеште Дунай течет быстрее и мощнее, чем в Вене. Ни один другой город эта река на своем трехтысячекилометровом протяжении не разрезает пополам с такой естественной точностью; пятисотметровое дунайское русло не объединяет ни один другой город столь гармонично и соразмерно. Но вода в голубом Дунае вовсе не голубая. С любого из восьми будапештских мостов прекрасно видно, с каким ровным рабочим усилием река перекатывает с севера на юг мускулистые серо-зеленые волны. Дунай в Будапеште – монотонный, грустный, словно цыганская скрипка, поток. В любое время дня, даже в полдень, в любое время года, даже летом, в любую погоду, даже если над головой ни облачка, дунайские берега, будапештский горизонт, венгерское небо затянуты дымкой меланхоличной неопределенности.
В трудном венгерском языке есть выражение temetni tudunk. В несовершенном переводе оно означает “мы знаем толк в похоронах”. Откуда такая тоска, откуда эта мрачная уверенность, подтверждаемая статистикой – венгры числятся среди народов с самой высокой склонностью к самоубийствам? Один из ответов дает автор исторического исследования “Тысяча лет венгерского народа” Пауль Лендваи, сопроводивший свою книгу подзаголовком “К поражениям через победы”. Этот публицистический образ характеризует сложный алгоритм строительства венгерского государства. Пришедшие с Урала кочевники, начавшие освоение Карпатской котловины одиннадцать столетий назад, венгры после двух с половиной веков удачных захватнических походов сами оказались жертвой монгольского нашествия. Еще через триста лет процветанию Венгерского королевства, покорившего половину Центральной Европы, положило конец поражение от Османской империи. Освобождение от власти турок пришло сюда в конце XVII века вместе с европейскими армиями, основу которых составляли войска Габсбургов. А северные и западные венгерские земли попали под габсбургскую власть полутора веками ранее.