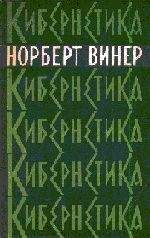Идеи каждой эпохи отражаются в ее технике. Инженерами древности были землемеры, астрономы и мореплаватели; инженерами XVII и начала XVIII столетия — часовщики и шлифовальщики линз. Как и в древности, ремесленники создавали свои инструменты по образу небесных светил. Ведь часы не что иное, как карманный планетарий, движущийся в силу необходимости, подобно небесным сферам, а если в часах играет некоторую роль трение и рассеяние энергии, то это явления нужно устранить, чтобы движение стрелок было по возможности периодическим и правильным. Основным практическим результатом этой техники, основанной на идеях Гюйгенса и Ньютона, была эпоха мореплавания, когда впервые стало возможно вычислять долготы с приемлемой точностью, и торговля с заокеанскими странами, бывшая чем-то случайным и рискованным, превратилась в правильно поставленное предприятие. Это была техника коммерсантов.
Купца сменил фабрикант, а место хронометра заняла паровая машина. От машины Ньюкомена почти до настоящего времени основной областью техники было исследование первичных двигателей. Тепло было превращено в полезную энергию вращения и поступательного движения, а физика Ньютона была дополнена физикой Румфорда, Карно и Джоуля. Появилась термодинамика — наука, в которой время, по существу, необратимо; и хотя на первых шагах эта наука, по-видимому, представляла собой область мышления, почти не имевшую точек соприкосновения с ньютоновой [c.92] динамикой, однако теория сохранения энергии и последующее статистическое истолкование принципа Карно, или второго закона термодинамики, или принципа вырождения энергии, — этого принципа, на основании которого максимальный коэффициент полезного действия, достижимый для паровой машины, зависит от рабочих температур котла и конденсатора, — все эти открытия привели к слиянию термодинамики и ньютоновой динамики в одну науку, взятую соответственно в ее статистическом и нестатистическом аспектах.
Если XVII столетие и начало XVIII столетия — века часов, а конец XVIII и все XIX столетие — века паровых машин, то настоящее время есть век связи и управления. В электротехнике существует разделение на области, называемые в Германии техникой сильных токов и техникой слабых токов, а в США и Англии — энергетикой и техникой связи. Это и есть та граница, которая отделяет прошедший век от того, в котором мы сейчас живем. В действительности техника связи может иметь дело с токами любой силы и с двигателями большой мощности, способными вращать орудийные башни; от энергетики ее отличает то, что ее в основном интересует не экономия энергии, а точное воспроизведение сигнала. Этим сигналом может быть удар ключа, воспроизводимый ударом приемного механизма в телеграфном аппарате на другом конце линии, или звук, передаваемый и принимаемый через телефонный аппарат, или поворот штурвала, принимаемый в виде углового положения руля. Техника связи началась с Гаусса, Уитстона и первых телеграфистов. Она получила первую достаточно научную трактовку у лорда Кельвина, после повреждения первого трансатлантического кабеля в середине прошлого столетия. С 80-х годов, по-видимому, больше всего сделал для приведения ее в современный вид Хевисайд. Изобретение и использование радиолокации во II мировой войне, наряду с требованиями управления зенитным артиллерийским огнем, привлекло в эту область большое число квалифицированных математиков и физиков. Чудеса автоматической вычислительной машины принадлежат к тому же кругу идей — идей, которые, бесспорно, никогда еще не разрабатывались так интересно, как сейчас.
На всех ступенях развития техники со времени [c.93] Дедала и Герона Александрийского людей интересовала возможность создания машин, подражающих живому организму. Это стремление к созданию и изучению автоматов всегда выражалось на языке существовавшей в данное время техники. В дни магии мы встречаем причудливое и зловещее представление о Големе — глиняной фигуре, в которую раввин из Праги вдохнул жизнь кощунством против Неизрекаемого Имени Божия[124]. Во времена Ньютона автомат принимает вид часового музыкального ящика с фигурками на крышке, совершающими чопорные пируэты. В XIX столетии автомат — это прославленный тепловой двигатель, сжигающий горючее подобно тому, как человеческие мышцы сжигают гликоген. Наконец, современный автомат открывает двери при помощи фотоэлементов, или направляет пушки на то место, где луч радиолокатора обнаруживает самолет, или решает дифференциальное уравнение.
И автомат древних греков, и магический автомат лежат в стороне от основных линий развития современных машин, и по-видимому, не оказали большого влияния на серьезную философскую мысль. Совсем иначе обстоит дело с часовым автоматом. Эта идея действительно сыграла важную роль в ранней истории новой философии, хотя мы склонны ее игнорировать.
Начать с того, что Декарт считает низших животных автоматами, дабы не подвергать сомнению ортодоксальное христианское положение о том, что животные не имеют души, которая может быть спасена или осуждена. Вопрос о том, как действуют эти живые [c.94] автоматы. Декарт, насколько мне известно, нигде не обсуждает. Но важный родственный вопрос о способе соединения человеческой души в сфере ощущений и воли с ее материальным окружением Декарт рассматривает, хотя и весьма неудовлетворительным образом. Он считает местом этого соединения одну известную ему среднюю часть мозга — шишковидную железу. Характер соединения — является ли оно непосредственным действием духа на материю и материи на дух — ему не особенно ясен. Вероятно, он рассматривает это соединение как непосредственное действие в том и другом направлении, но он считает, что истинность человеческого опыта по отношению ко внешнему миру обусловлена благостью и справедливостью бога.
Роль, приписываемая в этом смысле богу, неясна. Либо бог полностью пассивен, и тогда объяснение Декарта ничего в действительности не объясняет, либо он активный участник, тогда гарантия, основанная на его справедливости, может состоять лишь в активном участии бога в акте ощущения. Таким образом, параллельно причинной цепи материальных явлений проходит причинная цепь, начинающаяся с акта, совершаемого богом, которым он производит в нас восприятия, соответствующие данному материальному состоянию. После такого допущения вполне естественно приписать подобному же божественному вмешательству соответствие между нашей волей и действиями, которые она, кажется нам, производит во внешнем мире. По этому пути пошли окказионалисты — Гейлинкс и Мальбранш. У Спинозы, который во многих отношениях является продолжателем этой школы, доктрина окказионализма принимает более разумную форму, в виде утверждения, что соответствие между духом и материей есть соответствие двух атрибутов, содержащихся в самом боге. Но Спиноза лишен динамического склада мышления и обращает мало внимания на механизм этого соответствия.
Из этого положения исходит Лейбниц, но мышление Лейбница динамично, в отличие от геометрического мышления Спинозы. Он заменяет пару соответствующих друг другу элементов — дух и материю — континуумом соответствующих друг другу элементов — монадами. Хотя они созданы по образу души, во многих случаях они не поднимаются до степени самосознания [c.95] совершенных душ и образуют часть того мира, который Декарт считал материей. Каждая из них живет в своем замкнутом мире, в котором имеет место совершенная причинная цепь от сотворения или от минус бесконечности во времени до неограниченно отдаленного будущего, но хотя они и замкнуты, они соответствуют друг другу благодаря предустановленной гармонии бога. Лейбниц сравнивает их с часами, которые были заведены так, что с сотворения они будут идти в такт в течение всей вечности. В отличие от часов, сделанных людьми, они не впадают в асинхронизм. Но это обусловлено чудесным и совершенным мастерством творца.
Итак, Лейбниц рассматривает мир автоматов, который, как и полагается ученику Гюйгенса, он строит по образцу часового механизма. Хотя монады и отображают одна другую, это отображение не есть перенос причинной связи от одной монады к другой. По существу, они столь же самодовлеющие или даже более самодовлеющие, чем пассивно танцующие фигурки на крышке музыкального ящика. Они не оказывают реального влияния на внешний мир и, по существу, не испытывают его влияния. Как говорит Лейбниц, монады «не имеют окон». Наблюдаемая нами организация мира представляет собой нечто среднее между вымыслом и чудом. Монада — это ньютонова Солнечная система в миниатюре.
В XIX в. автоматы, построенные человеком, и другие, естественные автоматы — животные и растения в представлении материалистов — изучаются в совершенно другом разрезе. Руководящие принципы этого века — сохранение и вырождение энергии. Живой организм — это прежде всего тепловой двигатель, сжигающий глюкозу, гликоген или крахмал, жиры и белки, которые превращаются в двуокись углерода, воду и мочевину. Внимание сосредоточено на метаболическом балансе, и если обращали внимание на низкие рабочие температуры мышц животного в противоположность высоким рабочим температурам теплового двигателя с таким же коэффициентом полезного действия, то от этого факта отмахивались и объясняли его тем, что в живом организме действует химическая энергия, а в машине — тепловая энергия. Все основные понятия приводились в связь с энергией, и основным из них было [c.96] понятие потенциала. Изучение механизма тела представляло собой ветвь энергетики. Такова до настоящего времени господствующая точка зрения классически мыслящих, консервативных физиологов. Общее направление мыслей таких биофизиков, как Рашевский и представители его школы, свидетельствует о живучести этих взглядов.