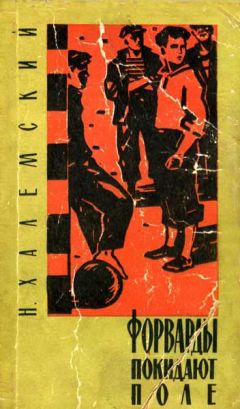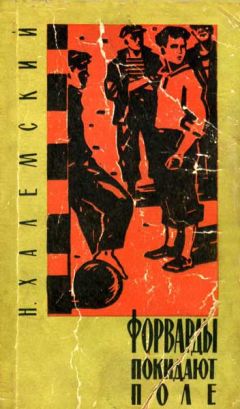Я стараюсь держаться у самого берега. Здесь легче грести, а нам хочется до наступления сумерек попасть в Стайки и там устроиться на ночлег.
Счастье величаво плыло кильватерной колонной навстречу бригу «Спартак». То были самые обыкновенные утки, беспечные и доверчивые домашние птицы, ничего не смыслящие в человеческом коварстве. Я даже почуял нежный запах бульона, в котором плавают пупок и желтые крылышки. С Санькой, очевидно, происходило то же самое: в глазах его зажглись боевые огоньки. Пришел в себя и дремавший боцман. Наклонившись вперед, он ласково забормотал:
— Гу-гу-гу… Гу-гу-гу… Чтоб вас Степа съел, чтоб вас Степа съел!
Трезор подтянулся, по телу его пробежала нервная дрожь. От волнения у меня пересохло в горле. Я перестал грести. Саня тихо подгребал одним веслом, направляя лодку во фланг утиной флотилии. Быстро раздевшись, мы со Степкой одновременно плюхнулись в воду, едва не опрокинув лодку. Утки с кряканьем бросились в разные стороны. Я уже почти настиг их вожака; еще одно усилие, еще один взмах руки — и вдруг слышу:
— Ану, хлопче, вилазь…
Я и сам уже мечтал ощутить под ногами твердую почву, А утиное племя подняло такой шум, словно их всех собирались истребить.
На берегу стоит дядька в холщовой белой рубахе и таких же штанах, с буденновскими пшеничными усами и лицом цвета жженого кофе. Одной ноги у него нет, ее заменяет деревяшка. Наверно, это хозяин утиной флотилии.
— Кажуть вам — вылазьте, хлопцы, — спокойно повторяет он.
Мы со Степкой — первыми предстаем перед одноногим, Санька, не желая оставлять нас в беде, также причаливает к берегу. Рядом, поникнув головой, с виноватым видом плетется Трезор.
На пригорке, невдалеке от берега, стоит хата — белая с голубыми оконцами, опрятная и нарядная, как невеста.
— Вы что, хлопцы, гайдамаки? — спрашивает одноногий.
Из садика выпорхнула, словно мотылек, девчонка лет четырнадцати, в светлом платьице и белой косынке.
Глядя на дядьку, на его добрые с хитринкой глаза, прислушиваясь к его душевному, с хрипотцой, голосу, я даже успокоился.
И вдруг Степка вышел чуть вперед и, стягивая шпагатом штаны на животе, сказал:
— Здравствуйте, дядя!
— Дай тебе бог здоровьячка, племянничек.
— Град и ливень застали нас ночью на реке и всю жратву начисто попортили, факт, — бойко рассказывает Степка и вдруг, указав на меня, совершенно серьезно добавляет: — А у Вовки нашего хвороба, он вроде припадочный сделался от голода.
Дядька разгладил свои роскошные усы и весело распорядился:
— Ану, доню, вертай до хати та насип нам попоїсти.
Глаза у девчонки синие, брови выгорели на солнце, а волосы, заплетенные в две тугие косички, отливают золотом.
В хате было прохладно, пахло травами. Увидев деревянные ложки, ржаной хлеб и кувшин с молоком, мы повеселели.
Кроме стола, двух широких скамеек и солдатской железной койки, здесь ничего не было. Леся суетилась у стола. Она ловко вытянула из печи горшок и принялась разливать густой ароматный борщ.
Мы накинулись на еду. Один дядька Панас ел неторопливо, с достоинством. После каждой ложки он не спеша вытирал усы. Леся подливала борщ в наши миски. Санька и Степка тоже не страдали отсутствием аппетита, я же ел сосредоточенно и целеустремленно, как человек, сознающий, что такая возможность представится не скоро. У меня желудок страуса, и поглотить я могу, если не остановить вовремя, очень и очень много. Впрочем, дядька Панас отличался деликатностью, которой мог бы позавидовать не только пресловутый начальник вишенской милиции. Пока мы не положили ложек, он не стал задавать нам каких-либо вопросов.
После сытного обеда хозяин угостил нас самосадом, от которого у меня дыхание сперло, и наконец спросил:
— Хто вы и куда путь держите, хлопцы?
Мы переглянулись. Я решил ответить за всех:
— Цирковая труппа, дядя Панас. Мы ездим по селам и выступаем, но в Вишенках у нас украли шесты, брезент, и мы остались на бобах.
В глазах хозяина я прочел недоверие.
— Выходит, вы клоуны?
— Нет, — вступил в разговор Степан, — мы не клоуны и не цирковая труппа. Мы, факт, простые хлопцы, сыны своих отцов и матерей, у меня, правда, матери нет. Брехать не ставу — бежали мы из дому, не хотели быть в тягость родителям. Вот и ищем работу, а заодно, правда, выступаем: Санька у нас циркач, я пою, а Вовка на гитаре шпарит и шарики кидает.
— А что ты умеешь петь, хлопче?
— Все, дядя Панас, и душевное, и веселое. — Сказал он это так спокойно и самоуверенно, словно на мировом конкурсе вокалистов получил поощрительную премию.
— Заспивай нам душевное, — попросил хозяин дома.
Степан не заставил себя просить. Без всякого аккомпанемента затянул он «Сонце низенько…».
После этого стало ясно: ни мне, ни Саньке нечего претендовать на внимание со стороны Леси. Глаза у девочки сверкали восторгом, и глядела она на Степку с таким умилением и трепетом, словно его лицо действительно чем-то отличалось от утюга.
Хозяин был растроган.
— Хлопцы, — предложил он. — Завтра воскресенье, в селе праздник. Вот вы с утра и устроите там театр.
Заговорил и Санька:
— Дядя Панас! Но ведь нет у нас шестов, брезента, шариков.
— Если природа не дала шариков, вряд ли я помогу, а шесты мы сделаем…
Он провел меня и Саньку в сарай, где приятно пахло стружками и смолой. На стенах висели всякие инструменты: пилы различных размеров, рубанок, стамески, топор, ручное сверло. По-видимому, хозяин любил мастерить.
Шесты он изготовил отличные, с углублениями для плеча, гладкие до блеска. Шарики для жонглирования у него вышли легкие и удобные, нашлась и старая дерюга для манежа. Тем временем подкрались сумерки. Дядька Панас глянул на небо и спохватился.
— Лесю, Лесю! — позвал он дочку, но никто не откликнулся.
Он снял со стены фонарь. Леси и след простыл, нигде не было и Степана. И чего только девчонки липнут к нему? Он тоже хорош — приехал, напился, наелся да еще вскружил хозяйской дочке голову.
Вместо пропавшей Леси дядя Панас взял Саньку и меня зажигать бакены.
Днепр вздыхал глубоко и тяжело. Из дубовой рощи, темневшей на пригорке, доносилось лишь кукование, все остальное птичье царство уже смолкло. Лодка почти бесшумно шла меж камышей. Дядя Панас стоял в лодке, равномерно отталкиваясь одним веслом. Он греб с профессиональной непринужденностью опытного речника.
— Опоздал немного, — озабоченно сказал он. — Скоро пойдет «Софья» на Ржищев.
Вот первый бакен. В руках дяди Панаса вспыхнул огонек, через минуту язычок пламени замигал на воде…
Степан и Леся ждали на берегу. Их силуэты видны были издали, я даже успел приметить, как девчонка вырвала у Стенки свою руку.
На ночь в хате осталась одна Леся. Мужчинам она постелила под яблоней. Умиротворенные, мы молча лежим и глядим в синий, разукрашенный золотыми блестками полог неба.
Яблоки пахнут медом. Их много на теплом от дневного зноя земле, поэтому есть их не хочется.
Дядька Панас закуривает, Степка тоже тянется за табаком.
— Раненько, хлопцы, пошли вы в люди, — вздыхает усач.
— А вы, дядька Панас, когда начали курить?
— Я и не помню, бес його знает. Та я, козаче, не о том. В трудную пору живем, вот что. Вороне где ни летать — на свалке сидеть, а человеку надо свое место в жизни знать. А вы что ж, хлопцы, так нищими и будете ходить по свету, с протянутой рукой? Я так думаю — заработанный сухарь лучше краденого бублика.
— Мы чужого не берем, — попытался оправдаться Саня.
— А птица? — в упор спросил дядька Панас. — Сколько тебе, хлопче, лет?
— Шестнадцать, — ответил Саня.
— А я в семнадцать уже воевал и кричал: «Даешь мировую революцию!» Нашей дивизией командовал сам товарищ Якир. А было ему тогда двадцать лет.
— Не может быть!
— Факт! — подтвердил Степка. — Мой батя то же самое говорил. Он с Якиром, как родные братья, под одной шинелькой спали. Сам товарищ Якир перед строем полка подарил бате кожаные штаны и комиссарскую куртку.
Дядька Панас приподнялся. В темноте светлячком горела его самокрутка, сам он походил на грозную, причудливую тень.
— Як звуть твого батька? — настороженно спросил он.
— Андрей Васильевич.
— Фамилию спрашиваю!
— Головня.
— Ой, лишенько! Може, ти, хлопче, брешеш? — Он встал и подошел к Степке. — Головня, кажеш? Так Головня ж мой командир взвода, щоб я пропав. Выходит, Головня живой?
На радостях он обнял Степку и поцеловал его в щеку и в нос, потом начал обстоятельно описывать внешний облик Андрея Васильевича, его привычки, манеры, крутой нрав и несокрушимую волю.
— Ось вам хрест, — костей бы от меня не осталось, если б не комвзвода Головня. Це ж он спас меня под Копылкой! — и хлопнул себя по культе.