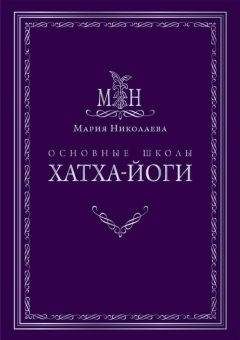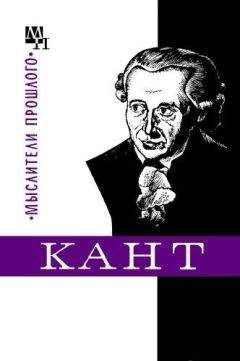«Когда какая-либо форма жизни стареет», философия начинает воспроизводить ее седину в серых тонах, и тогда ее уже нельзя помолодить, а можно только познать; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» (ebenda 21; ср. Encykl. § 237: die Philosophie als Greis). Наша философия далека от такого божественно-сумеречного настроения; процесс мирового творчества в мышлении и в деле она рассматривает как бесконечный, следствие достигнутого и достижимого разрешения «уравнения» опыта, она понимает совершенно по Канту, как «асимптотическое приближение» к бесконечно удаленной цели, поставленной только в идее, в усмотрении духа. Тем не менее мы согласны с Гегелем в очень многом; можно было бы почти сказать: он разделяет истолкованный и развитый в нашем смысле «критический идеализм» во всем существенном, кроме одного: его абсолютизма. Однако это было бы не более безопасно, чем сказать: Тихо де Браге держался совершенно того же мнения, что и Коперник, кроме одной малости – он отрицал движение земли. Это сравнение верно еще и в другом смысле: несмотря на то, что Гегель желает основываться на «процессе», на движении понятия, его абсолютизм означает на самом деле стояние мышления. Его мировой процесс завершается и заканчивается четырьмя известными периодами. К этому-то мы и не можем примкнуть ни в каком случае.
В противоположном направлении удаляется от смысла трансцендентального метода, как мы его понимаем, новый трансцендентальный идеализм Риккерта. В противоположность всеобъемлемости Гегелевской логики, он стремится замкнуть господство последней в более узкие границы, отрицая за нами право утверждать не только время и пространство, но даже и число в качестве чисто логических образований. Здесь кажется уместным краткий экскурс в эту область, потому что Риккертовское исследование об «Одном едином и единстве» (в «Логосе» ч. II, т. 1), очевидно, относится к моему построению в «Логических основах», а книга Фришейзен-Келера «Наука и действительность» все понимание логического, каким его выдвигает наша школа, считает опровергнутым этим исследованием Риккерта.
Я не могу признать эту критику правильной. Сначала, в целом ряде положений, Риккерт, несмотря на различие выражений, по существу сходится со мною. Ни качество, ни, по его решительному признанию, количество, по существу не понимаются им иначе, нежели мною. Кроме того, он проводит с большою тонкостью различия, которые и я защищал по существу в том же смысле, и которые уже раньше были выяснены Платоном. В частности он показывает, что количество не является качеством и не может быть сведено к последнему, так же, как и обратно.
Но то, что поэтому количество не является столь же логическим, как качество, хотя и утверждается, но не основывается ни на чем, кроме того, что Риккерту нравится понимать под мышлением только мышление качества. Согласно же моему положению, количество ни в каком случае не есть качество, и качество не есть количество, но между ними существует такое принудительное соответствие, что с одним необходимо утверждается и другое, каждое другого обусловливает, возникает и падает вместе с ним. Из собственных же предпосылок Риккерта, как мне кажется, вытекает следующее. На качестве, которое и у него должно представлять собою «синтез многообразного», основывается род; но поскольку род заключает в себе многообразие видов (по крайней мере, двух), вместе с ним дана и «однородность», которая по Риккерту сама является решительным условием количества. Что можно сказать о многообразии, которое означает множество видов, т. е. о множестве видов, подчиненных одному роду, а вместе с тем вообще о возвышающемся над собою роде, другого, кроме того, что этим в то же время заложен фундамент для числа? – Однако Риккерт в полном согласии с «Софистом» Платона и с Кантовским понятием синтеза, не хочет только тавтологии, а хочет гетерологии; но в таком случае он должен признать и ту и другую, а также неизбежное соответствие между ними, а именно, что то же самое может быть (относительно) тожественным и различным, тогда как, согласно понятию, тожество, разумеется, не есть различие и различие не есть тожество. При таких неизбежных предпосылках нет оснований считать количество менее логическим, нежели качество, потому что в таким случае на самом деле не существует никакого логоса, никакого понятия, никакого суждения, никакого заключения без того и другого вместе. Благодаря этому совершенно ясно необходимое взаимоотношение: центр существует только для периферии, как и периферия только для центра, тогда как по своему понятию они совершенно различны, и центр так же противоположен периферии, как плюс минусу. Точно так же, так как количество следует рассматривать лежащим в направлении к периферии познания, то тому, кто односторонним образом видит «логическое» только в центре, количество кажется уже чем-то алогическим, а именно, первым алогическим, которое из всего алогического стоит наиболее близко к логическому. Поэтому, например, по Риккерту, оно вместе с последним отличается от пространственно-временных определений, от созерцаемого – по Канту, вполне отличается от всякой эмпирической данности, и в основании является посредником между логическим и алогическим; оно даже относится к области рационального, a priori (§ 66). Но именно это мы называем «логическим»; ratio – это перевод слова логос. По моему мнению, это странное промежуточное положение совершенно объясняется тем, что количество представляет собою периферическое направление логического, а качество – центральное. Но этим не сказано, что количество просто направлено вовне мышления. Противоположность внутреннего и внешнего скорее разрешается в отношении центра к периферии внутри самого мышления, мышления как процесса. Периферия мышления, как мы знаем, не есть нечто твердое, а подвижное; круг познания должен мыслиться имеющим не постоянный радиус, а радиус подвижной, растущий в бесконечность; таким образом периферическое отношение не является отношением, выводящим вон из мышления, к чему-то просто мышлению чуждому. Чем могло бы быть это последнее? Знакомый нам «внутренностью природы», вечно предоставляющей нам только внешнюю поверхность. Но с этим мы уже покончили.
Я не буду далее распространять этих исследований, которые все касались только теоретической философии; мне остается еще кратко рассмотреть положение этики и эстетики относительно теоретической философии в Марбургской школе, снова в противоположность взглядам Гегеля; критика наших сотрудников в области философии за последнее время не раз высказывалась и по этому поводу. То, что между нами и Гегелем тут существует глубокое различие, почувствовал, например, Астер. Однако это различие никоим образом не может быть удовлетворительно выражено так, что у нас нравственные ценности и художественная фантазия стоят рядом с научным мышлением в качестве «равно распределенных функций, в которых сознание охватывает объективную сферу»; поэтому история или должна быть заменена естествознанием так же как и психология у меня будто бы растворяется в естествознании, – или, рассматриваемая с этической точки зрения, она выходит из рамок мыслящего, научного рассмотрения мира. Вершину научной иерархии поэтому составляет у нас математическое естествознание.
В этих положениях следовало бы исправить почти каждое слово. Простое сопоставление логики, этики и эстетики так же мало выражает наше понимание, как и кантовское, потому что мы и тут целиком остаемся на той линии развития, которая ведет от Платона к Канту, а от последнего к чистому, проведенному до конца методическому идеализму. Отношение этики – чтобы остановиться теперь на ней, – к теоретической философии для нас точно так же, как и для них, по существу определяется отношением безусловного, а именно, безусловной законности к обусловленному, к законности условной. Но при этом это тот же логос, тот же «разум», теоретически открывающийся в условных границах времени пространства и причинности, а этически свободный от этой обусловленности. Поэтому «логика, имеющая первоначально широкий смысл учения разума, получает у нас высший ранг; она охватывает не только теоретическую философию, как логика «возможного опыта», но и этику, как логика формирования воли, а также эстетику, как логика чистого художественного формирования. Вместе с этим она обосновываете дальнейшую, необозримо расширяющуюся область наук: социальных (как учение о хозяйстве, праве и культуре), а именно, историю, науку об искусстве и о религии, т. е. так называемые науки о духе, а не только естествознание, не говоря уже о только математическом естествознании. И притом в определенном преобладание первых над последними, в строгом смысле Кантовского примата практического разума. Поэтому нет ничего менее обоснованного, чем упрек в натурализации этики, выдвинутый Виндельбандом против Когена и находящий свое дополнение в упреке, направленном против меня Астером, – в натурализации (или же в иррационализации, устранении из области науки) истории. Непонятно, каким образом можно было вывести из наших книг подобное представление. «Природа» далеко не имеет у нас значения чего-то последнего, вершины в иерархическом ряду наук, как это полагает Астер. Она имеет у нас значение только гипотезы, выражаясь резко – фикции и завершения, а не действительно достигнутого или достижимого завершения. Именно поэтому над ее всякий раз только обусловленным «бытием» возвышается у Когена в качестве ему «трансцендентного» (в смысле Платоновского έπέχεινα) безусловное долженствование, а вместе с ним совершенно другого рода область этических проблем. Эта область на самом деле вовсе не оторвана от логоса, от мышления, от разума, а именно и является их безостановочным раскрытием, не ограниченным более условиями времени, пространства и причинности. Она обусловлена не отпадением от разума, а скорее расширением его царства, переступающим все границы, в которых всегда остается заключенной теоретическая философия, подчиненная очевидной необходимости. Кто же должен создать эту ограниченность, если не сам разум? Вот почему «критика» всегда только и признавала самопознание разума. Кто же, если не она, должен снова переступить в нового рода познании, границы, поставленные самою теоретическою философией? Если при этом возвышение этики над теорией не нарушает единства разума, то сами они все же отделяются друг от друга глубочайшим различием, какое только вообще возможно в области разума, а именно, различием безусловного полагания от всего обусловленного. Под этой последней противоположностью мы не знаем ничего дальнейшего, никакого «высшего» разума, кроме разве голой неразумности, которая если ссылается на волю, то не на чистую волю, если на чувство, то не на чистое чувство, если на фантазию, то не на чистую фантазию. С этим нам, конечно, делать нечего; этим и Кант и Платон и вся настоящая философия были бы приведены к смерти.