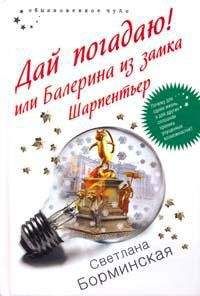Все это подготавливает восприятие слова околица как «границы видимого оку пространства»[95], которое увидено в этом тексте с точки зрения Читающего. На фоне предшествующего текста внутренняя форма слова околица в читательском восприятии обогащается новой возможностью: в нем «высвечивается» слово око. Вне этого текста ни то ни другое не верно (этимологически околица восходит к околь — «округ, округа»[96]). Но внутренняя рифма око — околица позволяет выделить и «договорить» начатую у Рильке мысль.
В немецком тексте «зрительный» ряд играет важную роль, но у Пастернака он заметно усилен. Распределение компонентов этого ряда по обоим текстам таково (отсутствие эквивалента обозначается прочерком, в скобках указываются номера строк, отсылающие к текстам в начале статьи):
ich sah (5)
steht (10)
ich schau noch nichl hinaus (11) —
hat kommen sollen (16)
ich … die Augen hebe (22)
meine Blicke … passen (27)
—
________________________________
я вглядывался (5)
я вижу (8)
—
должно … было оглянуться (13)
подыму / Глаза и … уставлюсь
взглядом (20–21)
глаз приноровить (25)
и я увижу (26)
По сравнению с текстом Рильке «зрительный» ряд в переводе расширен почти вдвое (вместо четырех позиций — семь). Этого оказывается достаточно, чтобы создать мощное поле «зрительной» идеи, способное вовлекать в себя слова с несобственно «зрительной» семантикой. Так, я знаю (12) в ряду вглядывался — вижу — я знаю — я увижу начинает восприниматься как синоним (я) вижу. В немецком соответствующие глаголы sehen и wissen (weiß ich, 14) могут вступать в сходные ассоциативные отношения, однако в тексте Рильке эта ассоциация явно слабее, чем у Пастернака. Еще слабее она в случае глагола sich verweben (daß ich mich verwebe, 26). В немецкой идиоматике и поэзии weben («ткать») регулярно рифмуется с leben («жить»)[97], сохраняя в языке древний образ жизни как ткани. Тривиальная с точки зрения немецкого языка рифма lebe (24) — verwebe (26) у Рильке связана прежде всего с чрезвычайно значимым для него в период создания «Книги образов» понятием жизни и темой включенности в нее[98]. Пастернаку удается передать рифмующуюся немецкую пару одним словом — вжиться (24), используя при этом имеющуюся в русском языке (и отсутствующую в немецком) возможность образовать от жить приставочный глагол со значением ‘sich verweben’. Но именно вследствие этой компрессии вжиться, оставшись без коррелята, оказывается вовлеченным в поле «зрения» и приобретает контекстное значение ‘всмотреться’.
Замыкается «зрительный» ряд словом околица, на которое благодаря enjambement приходится особое ударение и для которого в немецком оригинале эквивалента не находится[99]. На первый взгляд появление в финале стихотворения слов с ярким couleur locale[100] (кроме околица, также село и приход), как и большая подробность картины, удаляет переложение от оригинала (на что обратил внимание К. М. Азадовский[101]). Однако этим отступлениям противостоит сохранение существенных смыслов текста Рильке. Я имею в виду не только (имплицитное) отождествление образа «крайнего дома» с лирическим «я»[102], но и главную для всего текста мысль о единении «я» с миром. Словесное выражение этого единения в переводе оказывается поразительно емким благодаря совпадению в одном слове — околица — границ малого человеческого мира и земного круга[103].
* * *
Можно было бы пронаблюдать и другие знаменательные расхождения между пастернаковским переложением и «Der Lesende» Рильке. Я остановилась на двух из них, показательных, как представляется, для переводческой позиции Пастернака. Те связи, которые закат и околица обнаружили в более широком контексте творчества Рильке и Пастернака, позволяют увидеть неслучайность этих отступлений от оригинала. Вызванный ими сдвиг образной системы отражает, по-видимому, восприятие Пастернаком поэтического языка Рильке. Становится понятнее, что имел в виду Пастернак, говоря о поиске верного «тона» в переводе[104].
____________________
Марина БобрикНеизвестное письмо Брюсова к Бальмонту
Как хорошо известно, переписка В. Я. Брюсова с К. Д. Бальмонтом была опубликована А. А. Ниновым и P. Л. Щербаковым в одном из брюсовских томов «Литературного наследства»[105]. Вместе с тем во вступительной статье к данной публикации читаем:
Письма Брюсова к Бальмонту не сохранились, так как личный архив Бальмонта за рубежом оказался утерянным и, по-видимому, погиб безвозвратно. От этих писем, которых должно было быть не менее ста, в личном архиве Бальмонта осталась небольшая пачка черновиков. <…> Всего таких черновиков сохранилось более двадцати[106].
В текстологической преамбуле читаем также:
В архиве Брюсова остались черновики его писем к Бальмонту — основная их часть на отдельных листах (наиболее законченные по тексту); некоторые письма были вписаны Брюсовым в его дневники 1890-х годов. <…> В черновиках брюсовских писем к Бальмонту, сохранившихся в ГБЛ, адресат иногда не указан; поэтому, кроме основной стопки черновиков, явно обращенных к Бальмонту (Ф. 386, 69.26), несколько писем без личного обращения и адреса оказались по ошибке среди писем Брюсова к Курсинскому и Самыгину[107]…
Из этого понятно, что разыскания среди черновиков брюсовских писем к разным людям могут привести к новым находкам. Одну из таких находок мы предлагаем вниманию юбиляра и читателей.
Отношения В. Я. Брюсова с А. А. Шестеркиной достаточно хорошо известны[108]. Вместе с тем их переписка таит немалое количество загадок, поэтому следует несколько отвлечься и сказать несколько слов по ее поводу.
Знакомство совсем молодых людей состоялось довольно рано. В ноябре 1899 года Брюсов записал в дневнике:
Утешен на той среде был я лишь тем, что встретил г-жу Шестеркину, бывшую подругу Тали… Таля! да ведь это вся моя молодость, это 20 лет, это русские символисты[109].
Близкие отношения Брюсова с Талей (Н. А. Дарузес) относятся ко второй половине 1893-го и началу 1894 года, то есть впервые с Шестеркиной он встретился и запомнил ее с того самого времени. К осени 1899 года она уже была замужем за художником М. И. Шестеркиным и матерью двоих детей, тем не менее роман начался и развивался довольно быстро. Уже в апреле 1900 года Брюсов записывает и потом вычеркивает: «О Шестеркиной сюда не пишу, ибо эту тетрадь — несмотря на мои просьбы — читает Эда»[110]. Летом 1900-го Брюсов писал ей обширные письма из Ревеля, где он проводил лето. Однако внимательному читателю сохранившихся писем следует учитывать, что Брюсов писал ей в двух вариантах: довольно хорошо сохранившемся «официальном», именуя ее исключительно на Вы и соблюдая все формы эпистолярной учтивости, и неофициальном — пылко-страстном и чрезвычайно откровенном. Однако этот «откровенный» вариант остается практически неизвестным. Единственное, что мы в настоящий момент знаем, — черновик большого письма от 24–30 июня 1901 года, тех дней, когда Шестеркина потеряла их общего ребенка, и еще два фрагмента недатированных черновиков.
Разбирая оставшиеся после смерти Брюсова бумаги, его вдова не всегда была достаточно внимательна и к этим сохранившимся черновым наброскам присоединила еще один листок, пометив на нем карандашом: «Шестеркиной. 1900». Ее атрибуции последовали и сотрудники архива: обрабатывая фонд, они присоединили этот листок к сохранившимся черновикам писем к Шестеркиной (или, возможно, все записи по воле вдовы лежали вместе)[111]. Между тем даже при первом рассмотрении понятно, что это письмо к названному адресату отношения не имеет. Упоминаемые в первой же строке «Баньки» — имение, где жил С. А. Поляков; с ним Шестеркина была знакома, однако трудно себе представить, чтобы она там у него гостила. Слова Г. Г. Бахмана «обострившаяся гениальность» и «это выше Лермонтова», упомянутые Брюсовым стихи адресата также никак не могут быть отнесены к Шестеркиной. Более внимательное чтение показывает, что этот адресат — несомненно К. Д. Бальмонт, а время написания письма — отнюдь не 1900 год, а 1899-й. Именно в этом году, под расплывчато обозначенной датой «Июль — август» Брюсов записывает: