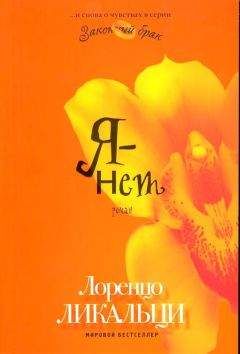И улыбнулась. И с тех пор все время улыбалась этой своей странной улыбкой, становившейся все более прекрасной.
Франческо плакал. Последнее время он плакал всякий раз, когда выходил из ее комнаты. Он старался, чтобы малышка Лаура не видела этого, но в моем присутствии не сдерживался и рыдал в голос. Так же, как рыдала я, когда за два месяца до смерти Элизы они официально поженились. В этот день Элиза была так счастлива, что казалась выздоровевшей. На церемонию они пригласили шесть человек: родителей, Флавио как свидетеля со стороны Франческо и меня, которую захотела видеть своей свидетельницей Элиза. Я помню, как она сказала мне:
— Это совсем не та свадьба, какой я ее представляла, но я все равно счастлива.
Франческо был вне себя от радости, видя, что Элиза хорошо себя чувствует.
— Если ты дашь мне слово быть всегда такой, я буду жениться на тебе каждый день, — прошептал он ей.
Неделю спустя началось быстрое угасание. Она так больше и не оправилась.
Кок только все кончилось, Франческо сломался.
Он не явился на похороны, попросив только, чтобы Элизу погребли в семейном склепе, и, насколько мне известно ни разу не был на кладбище.
Малышка Лаура ничего не знала и не понимала. Она все время была со мной, засыпая меня разными вопросами.
Франческо больше не существовало. Первое, что он сделал, — покончил с музыкой.
— Не ждите меня, я больше никогда не буду играть, я больше никогда не буду писать, — обратился он к своим товарищам по группе. — Вам нет смысла ждать меня. Ожидая меня, вы только потеряете время. Мне больше нечего сказать людям.
В таком состоянии, почти в полном безмолвии, Франческо прожил больше года. Он не мог разговаривать даже с Лаурой, которая теперь жила со мной и постоянно плакала.
Он не отвечал на телефонные звонки, сидел взаперти и выходил из дома лишь тогда, когда заканчивались продукты. Время от времени я навещала его, чтобы узнать, как он, но всегда неудачно: то ли он отсутствовал, то ли не открывал дверь, не знаю. Иногда он приходил в мой дом, чтобы побыть немного с дочерью, но был не похож на себя прежнего: не знал, как вести себя с ней, нервничал или сидел с отсутствующим взглядом. Лаура все замечала и со все большей неохотой проводила с ним время. Порой он появлялся поздно вечером, когда Лаура уже спала. Усаживался рядом с ее кроваткой и долго смотрел на нее, спящую. В эти минуты он казался более спокойным и адекватным, что-то говорил ей вполголоса, чтобы я не могла слышать. Я думаю, он говорил ей об Элизе. Он брал ее ручку, гладил волосы, целовал в лоб, после чего, шмыгая носом, исчезал. Я слышала, как иногда он называл ее принцессой, и всякий раз, как он это делал, у меня сжималось сердце. Потому что именно так он когда-то называл меня. Очень-очень давно. Так давно, что наверняка этого уже и не помнил.
Если он выходил из дома, то чаще всего это случалось по ночам, когда Милан безлюден. Запахнув поплотнее свою кожаную куртку, он часами бесцельно кружил по городу на машине или пешком. Он совсем бросил пить и курить, я имею в виду курить сигареты, потому что с травкой он завязал еще раньше. А с тех пор, как он сильно похудел, мне казалось, что он прекратил и питаться тоже.
Неделю назад — а мы с ним не виделись уже несколько дней — он пришел ко мне и сказал:
— Лаура, мне надо поговорить с тобой.
Мы сели, он попросил, чтобы я села напротив, взял мои руки в свои и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
— Выслушай меня… Вот уже с некоторых пор я постоянно думаю об этом… Я должен уехать.
— Уехать?! Куда? — спросила я с сильно бьющимся сердцем.
— Пока не знаю. Но здесь я больше не могу. Не прошло ни одного дня с тех пор, как Элизы нет, чтобы я не думал о ней, и ни одной ночи, чтобы она мне не снилась, и ни одного утра, когда бы я не просыпался и хотя бы на миг не поверил, что она здесь, рядом со мной, и так каждое утро, каждое проклятое утро Элиза словно умирает для меня снова и снова, и это уже как наваждение. Я так не вынесу, я должен освободиться от этого. Не от памяти об Элизе, нет, этого я не могу и не хочу, но от этого наваждения, потому что оно не дает мне жить, выжигает все во мне. Я постоянно думаю о ней. Я чувствую ее запах, вздрагиваю от эха ее голоса иногда мне даже кажется, что я слышу ее шаги по квартире и когда я говорю с собой, а в последнее время я разговариваю только с собой, я разговариваю с ней. Каждый раз когда я выхожу из дома, я иду искать ее, как будто могу ее встретить, и каждый раз, возвращаясь, я возвращаюсь к ней, как будто она ждет меня. Господи, Лаура, я больше так не вынесу.
— Мне очень жаль, но я думала, что могу помочь тебе — сказала я, сжимая его руки.
— Ты помогаешь мне, но это не меняет ситуации.
— А Лаура?
— Именно из-за Лауры я и должен уехать. Если б ее не было, я бы не уехал. Лаура нуждается во мне, а я нуждаюсь в ней, один Бог знает, как я нуждаюсь в ней, но я ей нужен другой, прежний, а в таком состоянии что я могу ей дать, кроме своей боли? Не думай, Лаура, что я не пытался выбраться из этого, еще как пытался, и, клянусь, пытаюсь каждый день… Каждый божий день я пытаюсь, поверь. Каждое утро я говорю себе: старайся, у тебя должно получиться, Элизы больше нет, но ты-то здесь, ты должен жить, ради себя, ради дочери, ради Лауры, которая заменила ей мать, и ради жизни, которую ты не имеешь право тратить так бездумно, но каждый раз… каждый раз Элиза возвращается еще болезненнее, чем раньше. Еще чаще, чем раньше. Еще чаще, чем когда была жива. И это становится невыносимо.
— Не отчаивайся, Франческо, все пройдет, клянусь, пройдет, — проговорила я, не в силах сдержать слез.
Он ласково улыбнулся мне и бережно вытер мои слезы.
— Однажды я уже уезжал отсюда надолго, сейчас я должен сделать это еще раз. Не знаю, пойдет ли это на пользу кому-нибудь и чему-нибудь… Вряд ли… Скорее всего, нет, потому что я не могу представить себе мир без нее, без Элизы, и куда бы я ни поехал, до тех пор, пока я буду на этом свете, все останется тем же самым. Но здесь все, что я вижу и к чему прикасаюсь, жестоко напоминает мне о ней, наибольшую боль мне доставляют принадлежавшие ей мелочи, на которые я то и дело натыкаюсь, бродя по дому: исписанный до корки блокнот в глубине ящика ее стола, чек из нью-йоркского магазина, неясно, как попавший сюда, меню ресторана, где мы вкусно ели, и она выпросила его у хозяина, чтобы прийти еще раз… И мы еще не раз приходили туда… Ее платья в шкафу, ее вещи… Книга, которую она-читала перед тем, как впасть в кому, еще открытая на семьдесят второй странице, на которой она остановилась… Старая виниловая пластинка, которую я ставил в день нашей свадьбы и которая до сих пор лежит там, на диске проигрывателя… и множество других мельчайших следов ее присутствия в доме, к которым я больше не притрагивался, к которым я не могу заставить себя притронуться и которых не должен касаться никто и никогда, до тех пор пока я жив… Вот почему я должен уехать, Лаура. Я должен найти дом для нас двоих.
Дом для нас двоих, сказал он то же самое, что двадцать лет назад.
Но на этот раз он говорил не обо мне, он говорил о другой Лауре
Я познакомился с Кэтлин в самолете. Она сидела рядом со мной и первой обратилась ко мне.
— Я тебя знаю, — сказала она, — ты играл в клубе «Шхуна» пару лет назад.
— Да, было такое, с моей группой, — буркнул я через силу, не глядя на нее.
— Вы здорово играли, а для моих друзей вы даже стали прямо-таки некоторым культом.
— Прямо-таки, — сказал я без выражения, слегка раздраженный ее назойливостью.
— Если не ошибаюсь, ты был с девушкой, блондинкой, которая пожирала тебя глазами. Я помню, что она всегда садилась за один и тот же стол, и как только вы заканчивали играть, ты усаживался рядом с ней. Кстати, извини, если я бесцеремонна, ты все еще с ней?
— Да.
Только теперь, чтобы усилить двусмысленную ложь, поднял на нее глаза.
Волосы, небрежно стянутые на затылке, несколько прядей спадает на лоб. Выцветшие джинсы, порванные на коленке, майка «Хард Рок Кафе Барселона», одна желтая теннисная туфля без шнурков. Одна, поскольку вторая под бедром противоположной ноги девушки, сидящей в своеобразной полупозиции лотоса. Судя по тому, что она удалась ей в самолетном кресле, девушка невысокого роста. Кожа оливкового цвета, черты лица слегка восточные.
Мы представились друг другу с кучей подробностей, точнее, она представилась с кучей подробностей, я ограничился тем, что назвал свое имя, сделав это так негромко, что вынужден был повторить.
— Как-как тебя зовут? — переспросила она, улыбаясь, в то время как я разглядывал ее с неожиданным для себя интересом.
— Франческо.
— А я Кэтлин, Кэтлин Комбе, — сообщила она раньше, чем я спросил, как ее зовут. Ее тон был доброжелательным и веселым, а манера поведения открытой.