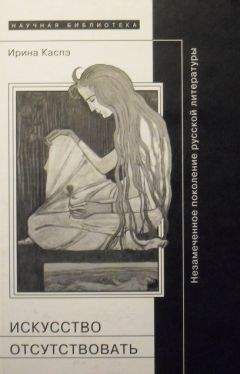Иными словами, это тоска не по прошлому, а по долженствующему быть, легендарному, мифологическому, недостижимому. Зинаида Шаховская, не желая отождествляться с русскими завсегдатаями Монпарнаса, подчеркивает: «Этот Петербург-Петроград накануне своего умирания казался мне очень искусственным насаждением на почве монпарнасских кафе. Кроме „властителей дум“ молодого поколения, Георгия Адамовича и Георгия Иванова <…>, в сущности, петербуржцев среди них не было, больше было уроженцев юго-западного края, и ностальгия их по столице русской империи казалась мне неудачным шаржем, <…> чем-то искусственным и неоправданным»[327].
Такое существование между двух наделенных точными пространственными координатами литературных легенд — «петербургской» и «монпарнасской» — самими участниками «монпарнасских разговоров» осознается через символы предельной «неприкаянности», «бездомности», «изолированности». Варшавский замечает: «Даже тут, в монпарнасской гостеприимной мешанине „племен, наречий, состояний“, даже у стоек ночных баров, этого последнего пристанища всех спившихся неудачников, погибших гениев и всякого рода проходимцев, сутенеров и проигравшихся картежников, они выделялись своей странностью — не отнесешь ни к какому установившемуся разряду людей. <…> Социально это были какие-го тени, „живые трупы“. Их столик всегда казался отделим от всех остальных невидимой чертой. Обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние»[328]. Попадая на «чужую», уже освоенную и уже превращенную в миф территорию, наши герои лишаются свободы перемещений — перейти «невидимую черту», перекраивающую пространство монпарнасского кафе, почти так же невозможно, как обрести потерянный петербургский рай. Оговоримся, что нас сейчас интересуют не столько причины изолированности как таковой (бедность, плохое знание языка, подозрительное отношение к эмигрантам из России — хотя, казалось бы, и они должны были бы раствориться «в монпарнасской гостеприимной мешанине»), сколько причины, побуждающие «молодых литераторов» постоянно маркировать замкнутость своего сообщества.
Своеобразную защитную функцию выполняет метафора «братства», способная оградить «странное», то есть фактически лишенное собственных свойств, сообщество литераторов-эмигрантов от проникновения «чужих» символов. Эта метафора отсылает, с одной стороны, к идеализированным представлениям о военном («офицерском», «белогвардейском») товариществе, с другой — к идее мистического братства, которая в эмиграции активно отыгрывается самыми разнообразными сообществами (от масонской ложи до «Братства святой Софии»), а в свое время была значима для символистов[329]. Какие механизмы на пересечении всех этих образцов поддерживают ощущение общности, мы и попытаемся выяснить.
Переживание общности, конечно, имеет для наших героев повышенную ценность. В начале этой книги мы говорили о том, что история межвоенной диаспоры пишется в первую очередь как история групп, организаций, объединений — разумеется, далеко не только литературных. Марк Раев подчеркивает: «Как всегда бывает с людьми, оказавшимися в чужом окружении, личные контакты и индивидуальные связи играли значительную роль как для самосознания эмигрантов, так и просто для их выживания»[330]. При этом групповая идентичность становится не только предметом индивидуального выбора, но и темой коллективного, публичного обсуждения. Язык таких полемик и обсуждений задается прежде всего эмигрировавшей «русской философией»: характерное соединение теологии, политики, культурной истории позволяет использовать оппозицию коллективное/индивидуальное в довольно разнообразных контекстах. «Молодые литераторы» могут иронично отзываться об этой риторике и дистанцироваться от тех или иных философско-религиозных и философско-политических групп, однако прочно усваивают не только терминологические штампы («соборное сознание»), но и стереотипные представления о «русской общинности» (православной соборности, большевистском коллективизме) и «западном индивидуализме» (его расцвете, закате, кризисе). С этими представлениями смешиваются отголоски споров о «чистом искусстве» («общественное», «общее», «типичное» против «субъективного», «частного»), а кроме того, языки персонализма, философии жизни и совсем свежих на рубеже 1920–1930-х годов теорий «массового человека». Маска поэта, литератора притягивает к себе значения уникальности, элитарности, экзистенциального одиночества, наконец, эмигрантской отверженности. Таким образом, в эпицентре обсуждения оказывается, с одной стороны, особое эмигрантское чувство общности, с другой — особое эмигрантское чувство одиночества. «После всех оговорок нужно повторить: главное в опыте молодых — чувство отверженности и одиночества. На это скажут: поэты всегда одиноки. Но эмигрантское одиночество совсем другого рода, чем овеянное романтической славой гордое одиночество Чайльд Гарольда <…> Не участвуя по-настоящему в жизни общества, эмигрант лишен всех тех сил жить и действовать и того чувства укрепленности в чем-то прочном, которые даются таким участием»[331]. По мнению Владимира Варшавского, именно повышенное внимание к «личному» и «внутреннему», «утверждение абсолютной ценности человеческой личности» удерживает «молодых литераторов» от участия в профашистских или просоветских объединениях, столь привлекательных для многих других эмигрантов, тоже называющих себя молодыми[332].
Неудивительно, что попытки собрать предъявляемые образы «молодого литературного поколения» в некое концептуальное целое обычно приводят исследователей к констатации «парадокса», «конфликта», «неснимаемого противоречия» — так, Андрей Азов, намереваясь реконструировать «самосознание» русских эмигрантов преимущественно на основе их публичных высказываний о себе, заключает: «Социализация художника в изгнании представала: с одной стороны, индивидуализмом, отказом от активной воли, утверждением в своем одиночестве и созерцательностью, а с другой стороны — стремлением к коммуникации, социальным активизмом, дающим иллюзию преодоления одиночества, которое в итоге оказалось неснимаемым»[333].
Действительно, создавая идеальный образ нового литературного сообщества, наши герои пытаются вместить его в то сужающееся, то расширяющееся пространство между коллективным и индивидуальным. Последняя категория настолько значима, что Зинаида Гиппиус именно с ее помощью описывает появление «новой литературы» и настолько актуальна, что при этом удается разграничить «субъективизм» начала века и «индивидуализм» конца 1920-х годов: «…Субъективизм — тупик, а от индивидуализма широкая дорога»[334]. Более того, возвращаясь в одной из своих поздних статей к теме некогда молодого поколения эмигрантов, Николай Оцуп развивает типологию Гиппиус и, в свою очередь, замечает «персоналистские» тенденции внутри «индивидуализма»: эмигрантская «персоналистская» литература середины 1930-х годов устремлена к «интегральному», к «свободе в Боге», которую Оцуп предлагает отличать от «эгоистической свободы»[335]. Так, дробясь на подвиды, «личное» все больше приближается к «общественному».
«Бродя „около важного“, молодая литература очень упорно бродит около вопроса о „личности и коллективе“»[336] — этот факт в глазах Дмитрия Мережковского вполне оправдывает существование журнала «Числа». В самом деле, с завидным упорством размышляя над этим вопросом, авторы «Чисел» разрабатывают своеобразный проект сообщества одиноких. Выстроить очередную оксюморонную конструкцию и позволяет идея «братства», «товарищества», тесного дружеского круга. Борис Поплавский провозглашает: «На самом деле, вероятно, ни чистой личности, ни чистого общества, противопоставленного ей, нет вовсе. <…> Ни того ни другого в чистом виде, ибо повсюду видимы кружки, тесные группы, дружеские компании, семьи, вообще живая бесформенная „среда“, и, во всяком случае, не абстрактное равенство. Нет, один человек бесконечно ценнее другого не вообще, а по роли своей около любящего его»[337], «Настоящая общественность есть тоже форма „частного дела“, форма дружбы и товарищества между человеком и его знакомыми»[338]. Любые проявления эмигрантской общности тщательно фиксируются и становятся частью утопии братства: Поплавский воображает «апокалипсическое тайное общество, которым могла бы стать эмиграция»[339] и включает в свои романы образы коллективной солидарности — «шоферского братства», «полкового товарищества». Немаловажно, что наши герои активно отстаивают свое право говорить о «братстве», использовать именно эту риторику: «Братство — вот слово (самое прекрасное слово на земле), которое можно сопоставить с „личностью“, но ни в коем случае не противополагая ей. Братство есть высшая форма закрепления личности»[340], — утверждает Анатолий Алферов; «Если раньше необходимым казался выбор между личной жизнью и общественной <…>, то теперь смутно осознается возможность третьего понятия — среды, семьи <…>. Слово „братство“ утеряло какую-то стыдливость»[341], — декларирует Лидия Червинская. «Третье понятие» привлекает и «старших литераторов» — не в последнюю очередь именно идея тайного братства, замаскированного под дружескую среду, вдохновляет организаторов общества «Круг» в их попытке объединить «молодую литературу» и «новоградскую» религиозную философию. Георгий Федотов, активный участник общества и постоянный автор одноименного альманаха, в статье с тем же самым названием «Круг» пишет: «Есть разные позиции перед лицом смерти. Самая распространенная в наши дни состоит в том, чтобы „раствориться в коллективе“. Другая позиция — одиночество <…>. Мне хочется сказать, что возможна третья позиция, которая выражена в слове „Круг“. <…> Если смерть неизбежна, ее не страшно встретить вместе. А если предположить невероятное — придет помилование — круг друзей сомкнется для общей работы, для новой жизни. И может быть, круг найдет свой центр, — вернее, увидит, Кто стоит в центре всякого круга. Мечты?»[342]