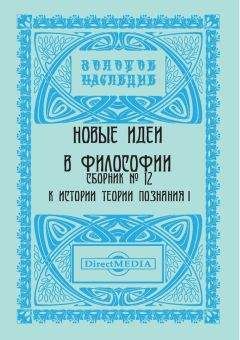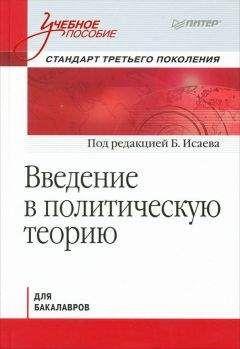Слова в тексте «или, вернее, идеализма» и «или реализма» вставлены во 2-м изд. (Прим. издателя собр. соч. Шеллинга).
Пока мы находимся в процессе реализации вашей системы, имеет место лишь практическая ее достоверность. Наше стремление завершить ее реализует наше знание о ней. Если бы в какой-нибудь определенный момент времени мы разрешили полностью нашу задачу, то система сделалась бы предметом знания и тем самым перестала бы быть предметом свободы.
Философия, какое прекрасное слово! Если позволено будет автору участвовать в голосовании, то он даст свой голос за сохранение старого слова. Ибо, на его взгляд, все наше знание навеки останется философией, т. е. всегда только развивающимся знанием, которого высшими или низшими степенями мы обязаны исключительно лишь нашей любви к мудрости, т. е. нашей свободе. – Менее всего желал бы он видеть нарушение смысла этого слова со стороны философии, впервые пытавшейся спасти свободу философствования от притязаний догматизма, философии, предполагающей самостоятельно добытую свободу духа и предназначенной поэтому вечно оставаться непонятой всяким рабом системы.
Почти совершенно непонятным представляется то обстоятельство, что при критике доказательств бытия Божия так долго оказалось возможным просмотреть ту простую, понятную истину, что о бытии Бога возможно только онтологическое доказательство. Ибо, если Бог есть, то он может быть только потому, что он есть. Его существование и его сущность должны быть тождественны. Но именно потому, что доказывать бытие Бога возможно лишь, исходя из самого этого бытия, это доказательство догматизма и не есть совсем доказательство, в собственном смысле слова; предложение же «Бог существует» является недоказанным, недоказуемым, необоснованным предложением, столь же необоснованным, как и высшее основоположение критицизма: Я существую! – Но еще несноснее для мыслящего ума, когда говорят о доказательствах бытия Божия. Как будто бытие, которое может быть понятным лишь чрез себя самого, лишь чрез свое абсолютное единство, можно, подобно многостороннему историческому предложению, заключая со всех сторон, сделать вероятным. Что должны были иные испытывать, читая возвещения, вроде следующего: «Опыт нового доказательства бытия Божия»! Как будто о Боге можно производить опыты и всякий раз открывать нечто новое! Причина таких в высшей степени нефилософских опытов как причина всякого нефилософского метода, лежала в неспособности отвлекать (от чисто эмпирического); особенно же в данном случае – в неспособности к чистейшему, высшему отвлечению. Бытие Бога мыслилось не как абсолютное бытие, но как определенное существование (Dasein), абсолютное не чрез себя самого, но лишь постольку, поскольку выше его неизвестно никакого другого. Такое эмпирическое понятие образуют о Боге все неспособные к абстракции люди. Еще более укрепляла в этом понятии боязнь, что чистая идея абсолютного бытия приведет к спинозовскому Богу. Да и как мог иной философ, желавший избежать ужасов спинозизма и потому удовлетворявшийся эмпирически существующим Богом, относиться к тому, что Спиноза в качестве первого принципа всякой философии выставлял предложение, которое он сам мог лишь выставить в результате кропотливых доказательств в конце своей системы! Но он хотел также доказать и действительность Бога (что может произойти только синтетически), так как Спиноза не доказал абсолютного бытия, а просто безапелляционно его утверждал. Замечательно, что язык уже столь точно различает между действительным (Wirkliches), т. е. тем что, будучи дано в ощущении, воздействует на меня, и на что я отвечаю обратным действием, существующим (Daseyend), т. е. определенно (в пространстве и времени) существующим вообще, и сущим (Seyend), т. е. тем, что не зависит ни от какого временного определения, а есть само чрез себя. Но при таком смешении этих понятий разве можно было хотя бы только подозревать даже отдаленный смысл систем Картезия и Спинозы? Они говорили об абсолютном бытии, мы же подставляли вместо него наши понятия о действительности, в лучшем же случае – чистое, но обладающее значимостью лишь в мире явлений, вне же его совершенно пустое понятие существования. В то время, как наша эмпирическая эпоха, казалось, совершенно утратила ту идею, она все еще продолжала жить в системах Спинозы и Декарта и в бессмертных творениях Платона, как священнейшая идея древности (τò őν); но не было бы ничего невозможного в том, что наше время, если бы ему когда-нибудь удалось снова возвыситься до той идеи, в гордом самомнении полагало бы, будто до сих пор ничего подобного не приходило еще на ум человеку.
Строка 11, снизу, в оригинале стояло «грубые наши понятия». (Прим. изд. собр. соч. Шеллинга).
Вопрос этот умышленно нами здесь так выражен. Автору известно, что Спиноза утверждает лишь имманентную причинность абсолютного объекта. Однако в дальнейшем мы увидим, что он утверждал это только потому, что ему было непонятно, как Абсолют может выйти из самого себя, т е. потому, что этот именно вопрос он мог, правда, поставить, но не разрешить.
В скобках – слова, вставленные в 1-ом издании.
В области бесконечного (дополнение 1-го издания).
В тексте полн. собр. соч. (I, I, стр. 315) стоить «объект» – очевидная опечатка. (Прим. пер.).
Согласно Спинозе, все адекватные, т. е. непосредственные познания являются созерцаниями божественных атрибутов, и основное начало, на котором покоится его Этика (поскольку она этика), выражается в предложении: mens humana habet adaequatam cognitionem aeternae et infinitae essentiae Dei (душа человеческая обладает адекватным познанием вечной и бесконечной сущности Бога). Эт.; кн. II, предл. 47. Из этого созерцания Бога возникает, по его мнению, интеллектуальная любовь Бога, описываемая им как приближение к состоянию наивысшего блаженства. В кн. V, предл. 36 он говорит: mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat (интеллектуальная любовь души к Богу есть часть бесконечной любви, которой Бог сам себя любит). – Summus mentis conatus summaque virtus est, res intelligere tertio genere, quod procedit ab adaequata idea divinorum attributorum (высшее устремление души и высшая добродетель – понимать вещь третьим родом познания, исходящим от адекватной идеи божественных атрибутов), ib. предл. 25. – Ex hoc cognitionis genere summa, quae dari potest, mentis acquiescentia oritur (из этого рода познания возникает наивысшее, какое только может быть дано, успокоение души), ib., предл. 27. – Clare intelligimus, qua in re nostra salus, seu beatitudo seu libertas consistit, nempe in aeterno erga Deum amore (ясно понимаем, в чем состоит наше спасение, или блаженство, или свобода, а именно, в вечной любви к Богу), ib., предл. 36 лемма.
Например, кн. V, предл. 30: Mens nostra, quatenus se sub aeternitatis specie cognoscit, eatenus Dei cognitionem necessario habet, scitque, se in Deo esse et per Deum concipi (душа наша, поскольку она познает себя в форме вечности, постольку необходимо обладает познанием Бога, зная, что она есть в Боге и понимается чрез Бога).
Ложно и благодаря иллюзии (1-ое изд.).
Ибо, чтобы разрушить ее, нужно разрушить себя самого (дополнение в 1-м изд.).
Причина того, что мы никогда не можем отделаться от нашего собственного Я, кроется в абсолютной свободе нашего существа, в силу которой Я в нас никогда не может быть вещью, доступной объективному определенно. Отсюда происходит, что наше Я никогда не может находиться в ряду представлений в качестве среднего члена в нем, но всегда начинает собою новый ряд, занимая каждый раз место первого его члена, держащего собою весь ряд представлений. Отсюда происходит также, что действующее Я, хотя оно и определено в каждом отдельном случае, в то же время все-таки не определено, потому что оно, ускользая от всякого объективного определения, может быть определено только самим собой, т. е. одновременно является определенным и определяющим.
Эта необходимость спасти свое Я от всякого объективного определения и потому повсюду мыслить еще себя самого, может быть подтверждена на опыте двумя, правда, противоречащими, но зато весьма обычными переживаниями. С мыслями о смерти и небытии мы нередко соединяем приятные ощущения, очевидно, на том основании, что мы даже при небытии предполагаем еще пользование этим небытием, т. е. продолжение нашего Я. Наоборот, неприятные ощущения мы соединяем с мыслью о небытии – То be or not to be (быть или не быть) – вопрос этот был бы для моего ощущения совершенно безразличен, если бы я только в состоянии был мыслить полное небытие. Ибо мое ощущение могло бы не бояться когда-либо вступить в коллизию с небытием, если бы я не опасался того, что мое Я, и стало быть также мое ощущение, может пережить меня самого. Прекрасные слова Штерна «Я должен был бы быть глупцом, чтобы тебя бояться, смерть. Ибо пока я существую, тебя нет, а когда ты существуешь, меня нет» были бы поэтому совершенно правильными, если бы только я мог надеяться когда-либо не быть. Но я опасаюсь, что буду еще существовать и тогда, когда меня уже более не будет. Поэтому мысль о небытии не столь устрашает, сколь вызывает неприятное чувство, ибо для того, чтобы мыслить свое небытие, я должен одновременно мыслить себя самого существующим и, следовательно, поставлен в необходимость мыслить противоречие. Итак, если я действительно боюсь небытия, то я боюсь не столько его, сколько своего существования даже и после небытия, – я с удовольствием бы не существовал, только я не хочу чувствовать моего небытия. Я только не хочу существования, которое не есть существование, или, как выражается один остроумный комментатор приведенных сейчас слов Штерна (Баггезен), я боюсь только недостаточного проявления существования, что действительно равносильно существованию одновременно с небытием.