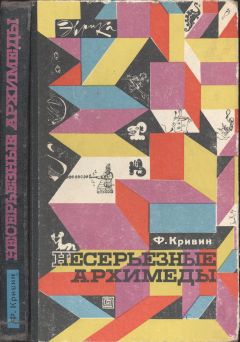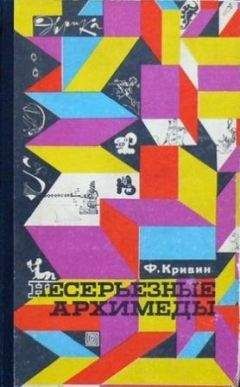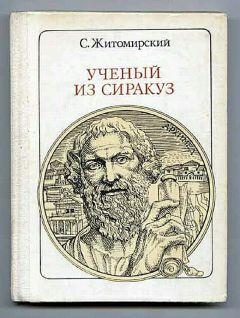Мой друг Белогрив, который лучше меня разбирался в жизни, не раз говорил:
— У послушной скотины сена полные закрома, но ноги ее опутаны толстой веревкой. Мы, лошади, устроены так, что у нас один желудок и четыре ноги… О чем же мы должны думать в первую очередь?
И вместо ответа Белогрив отрывал от земли свои четыре ноги и уносился в степь, увлекая нас за собой.
Белогрив был самым лучшим из нас. Это понимали все, особенно Рыжая Кобылица.
Сейчас даже странно об этом вспоминать. Белогрива давно нет, и давно нет Рыжей Кобылицы, и из всех тарпанов остался только я, да и то этому никто не поверит. «Тарпан? — скажут. — А что это такое, тарпан?»
Но я был тарпаном! И Рыжая Кобылица — это вовсе не выдумка, потому что мы ее любили все, все до одного — до того одного, которого она любила.
И конечно, это был Белогрив.
Та ночь застала нас посреди степи, и мы жались друг к другу, пытаясь укрыться от зябкого ветра. И тут я увидел, как Рыжая Кобылица подошла к Белогриву и положила ему на спину свою красивую голову.
— Холодно? — спросил Белогрив.
— Нет, — сказала она и закрыла глаза.
— Устала? — спросил Белогрив.
— Нет, — сказала Рыжая Кобылица.
И вот Белогрив, который так хорошо разбирался в жизни, на этот раз стал в тупик.
— Тогда я не понимаю… — сказал он и замолчал.
Рыжая Кобылица не отходила от него, и голова ее была у него на спине, и глаза ее были закрыты.
Мы все, сколько нас было в табуне, смотрели на них, но никто не решился им помешать.
— А если я не могу без тебя? — спросила Рыжая Кобылица.
— Глупости, — сказал Белогрив. — Ты просто устала.
— Но ты меня любишь?
— Нет, — сказал Белогрив. — И вообще все это глупости.
Подумать только, что их давно уже нет — ни Белогрива, ни Рыжей Кобылицы. И какое имеет значение, кто кого любил, если их давно уже нет, если от них ничего не осталось?
Но тогда это имело значение. Тогда Рыжая Кобылица сняла голову с его спины и побрела прочь. Она уходила в степь, а мы смотрели ей вслед, и никто не окликнул ее, никто не пошел за нею.
Мы смотрели ей вслед и не сразу заметили, что за нею движутся какие-то тени. Они двигались с разных сторон, постепенно смыкаясь вокруг нее.
— Волки! — крикнул кто-то из нас, но никто не двинулся с меёта. Мы смотрели на нее, и сердца наши обливались кровью, потому что все мы ее любили. Все, кроме одного.
И вдруг он, этот один, сорвался с места и поскакал по степи. Он бежал так, как умел бежать только он, — почти не касаясь земли, распластавши на ветру белую гриву.
Там он и погиб — рядом с нею, с той, которую не любил.
— Ты меня любишь?
— Нет. Все это глупости.
Не знаю, быть может, с тех пор нами овладел страх, и нас все чаще настигали пули и стрелы. Мы уже не летели над землей, а прижимались к ней, выбирая места пониже, чтобы не так бросаться в глаза. Но нас все равно находили и все равно убивали. А потом я остался один…
Но я был, был тарпаном! Я не знал ни этой конюшни, ни этой телеги, я скакал между степью и солнцем, раскаляясь от зноя и бега и видя впереди только степь. И Белогрив — это вовсе не выдумка, и Рыжая Кобылица не выдумка, и все мы, сколько нас было, не выдумка, не выдумка!
Все-таки когда-то я был тарпаном!
Мелкий грызун Шиншилла был, безусловно, прав, говоря, что заяц Агути парит в небесах, витает в облаках, что он обитает в воздушных замках. Заяц Агути действительно обитал в этих замках. Он проводил в них все время, за исключением тех немногих часов, которые требуются, чтобы пощипать траву, сбежать от охотника, а также побеседовать с мелким грызуном Шиншиллой.
Замок Агути стоял на горе, вернее, над горой, посреди голубого облака. Некоторые считают, что голубой цвет — это слишком старо и сентиментально, что сейчас больше в моде серые облака, но заяц Агути выбрал именно это облако, потому что был и сам чуточку сентиментален, за что мелкий грызун Шиншилла всячески его порицал.
Замок Агути был самым настоящим, хотя и воздушным замком, со всеми этими ходами и переходами, а также главным входом, у которого сидели огромные львы, разумеется не каменные, а живые. Они были привязаны к зайцу, как собаки (чего нельзя сказать о собаках, преследовавших его на земле), но охраняли львы, конечно, не зайца Агути, они охраняли прекрасную Корзель.
— Либо Корову, либо Газель, — возражал по этому поводу Шиншилла, мелкий грызун. — Ты, Агути, всегда всё перекручиваешь.
Бедный Шиншилла, он умел мыслить только логически У него все было или — или, третьего не дано. И он не в состоянии был понять, что тому, кто живет в воздушных замках, дано третье — Корзель, а совсем не Газель и, уж конечно, не Корова.
Красавица Корзель была пленница этого страшного Бегелопа, который украл ее у родителей, чтобы добиться ее любви. Но она не могла его полюбить, потому что у него был слишком толстый живот и слишком тонкие ноги. И кроме того, он так страшно разевал свою пасть, что нет, конечно, Корзель не могла полюбить Бегелопа.
— Либо Бегемота, либо Антилопу, — возражал мелкий грызун Шиншилла, верный принципу, что третьего не дано.
Еще как дано! Еще как было дано, когда Бегелоп явился среди ночи, схватил красавицу Корзель и утащил ее в свою берлогу! В этой берлоге он сообщил ей о своей любви и потребовал немедленной взаимности, но она не знала, что такое любовь, а он не мог ей этого объяснить, потому что у него была слишком большая пасть и слишком тонкие ноги.
— Эго же так просто, — растолковывал ей Бегелоп. — Ты берешь и любишь меня, а я беру и люблю тебя, и, значит, оба мы любим друг друга.
Но она не понимала, что значит любить.
— Ну как тебе сказать? — пытался сказать Бегелоп. — Это когда посмотришь — и сразу почувствуешь. Вот ты посмотри на меня. Ну? Чувствуешь?
Но она ничего не чувствовала.
Тогда Бегелоп позвал своего приятеля Уткорога.
— Либо Утконоса, либо Носорога, — вставил Шиншилла.
Нет, он позвал именно Уткорога и попросил, чтобы тот объяснил Корзели, что такое любовь.
— Любовь, — сказал Уткорог и почесал себя рогом под мышкой. — Любовь… — сказал он и почесал себе спину. — Любовь…
Больше он ничего не сказал. Он только говорил «любовь» и чесался в разных местах, но в этом не было ничего вразумительного.
Красавица Корзель смотрела на Угкорога и не могла понять, что такое любовь, потому что он слишком много чесался, и у него был этот дурацкий рог, и он не мог сказать больше одного слова.
И так стояли они втроем, и Бегелоп смотрел на Корзель, а Корзель смотрела на Уткорога, а Уткорог смотрел на Бегелопа и качал головой: сами понимаете, любовь — это такое дело, тут так просто не объяснишь.
Тогда Бегелоп позвал Ягудила.
— Либо Ягуара, либо Крокодила.
Тогда Бегелоп позвал Ягудила, и тот приполз, длинный такой и пятнистый, как выкрашенное бревно, и лежал, как бревно, пока Бегелоп объяснял ему, что от него требуется, и только широко раскрывал свою пасть, словно соревнуясь в этом с Бегелопом. И когда Ягудил наконец все усвоил, он так посмотрел на Корзель, что она испугалась и, уж конечно, не могла понять, что такое любовь.
И вот тогда, только тогда Бегелоп позвал зайца Агути. И заяц Агути пришел, и шерсть его блестела, как золото, а глаза сияли, как звезды.
Заяц Агути посмотрел на красавицу Корзель и срат зу забыл все, что он знал прежде, и вспомнил то, чего не знал никогда.
— Знаешь ли ты, как рождается луна? — спросил заяц Агути. — Она рождается как серп, который косит тех, кто не знал любви, потом она растет и становится похожей на сердце, которому не хватает его половины, а потом находит свою половину и становится полной, как два сердца, слившиеся в одно.
Заяц Агути был немножко сентиментален, и поэтому он так говорил.
— Знаешь ли ты, как вырастает цветок? — спросил заяц Агути. — Сначала он прозябает в земле, но потом пробивается к свету и видит небо над своей головой. И он вдруг понимает, что теперь ему уже не жить без неба, что теперь их двое, только двое на всей земле…
Бегелоп слушал зайца Агути и пытался запомнить его слова, чтобы потом сказать их Корзели.
— Знаешь ли ты, как возникает любовь? — тихонько повторял он вслед за зайцем Агути. — Она возникает внезапно, и никто не может сказать, откуда она взялась, как никто не может сказать, откуда взялась луна на небе и цветы на земле. Но когда она приходит, без нее уже невозможно жить, как нельзя жить без луны и цветов, как нельзя жить без тебя, Корзель, потому что ты — самая прекрасная…
Вот что сказал заяц Агути, и, хотя это было сентиментально, Корзель опустила глаза, и ей захотелось услышать еще что-нибудь в этом роде, потому что она поняла, что такое любовь.
— Наконец-то ты поняла! — обрадовался Бегелоп. — Теперь ты, заяц, можешь идти, больше ты нам не нужен.