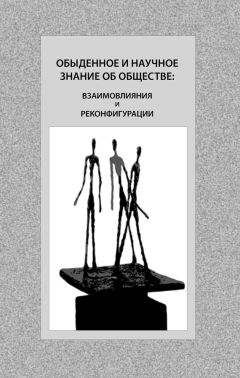Огромное число трактатов, посвященных подготовке к смерти, появилось в XV в. Известный французский ученый Р. Шартье, посвятивший большую статью этим произведениям религиозной литературы, пишет, что они, как правило, были украшены десятками гравюр. Особенно много внимания в них уделяется последним часам жизни, мукам агонии, которая интерпретируется как борьба между Богом и дьяволом за душу умирающего. В этих трактатах можно увидеть результат эстетизации смерти и процесса умирания, что проявляется в разглядывании и выписывании подробностей этого процесса, от которого один шаг до откровенного любования.
Идея примирения человека со смертью впервые нашла свое наиболее законченное выражение значительно раньше, в проповедях св. Франциска Асизского, который часто прибегал к словосочетанию «сестра – телесная смерть» [Арьес 1992, с. 49]. Однако между любовным отношением к смерти Франциска Асизского и любованием смертью в danse macabre существует огромная разница. Как отмечает французский историк Ж. Ле Гофф, массовому сознанию классического Средневековья были свойственны чувства оптимизма и покоя, благодаря образу чистилища, который занимал важное место в массовом религиозном сознании и догматике: «грешник искупает свои грехи в месте, расположенном между адом и раем, за время, пропорциональное содеянным проступкам» [Ле Гофф 1991, с. 32]. Кроме того, существовала «возможность сократить это время через систему индульгенций, через пожалования в пользу церкви и на бедных, через участие в мессах» [там же]. Представление о чистилище и практика продажи индульгенций укрепляли в людях чувство надежности и отгоняли мысль о смерти. Люди классического Средневековья верили, что они способны повлиять на свою загробную жизнь. Эта идея внушала ощущение радостной уверенности, которая, как считает Ж. Ле Гофф, наиболее полно выражена в религиозном поведении францисканцев, постоянно радующихся земной жизни и без страха ожидающих смерти.
Но в середине XIV в. произошел глубокий перелом. Он имел целый ряд причин, главной из которых была невиданная массовая эпидемия чумы, в результате которой население Западной Европы уменьшилось не менее чем на треть [Бессмертный 1991, с. 135–137]. В связи с этим боязнь умереть без покаяния и, следовательно, обречь себя на вечные муки в загробной жизни, стала навязчивой идеей в массовом сознании позднего Средневековья. Этой проблеме посвящена книга нидерландского философа, историка Й. Хейзинга «Осень средневековья» [Хейзинга 988] (1919), а позднее – работы французских историков Л. Февра [Февр 1991], Ф. Арьеса [Арьес 1992] и др. Особого внимания заслуживает книга французского историка и культуролога Ж. Делюмо «Ужасы на Западе» [Делюмо 1994].
В иконографии того времени образ смерти, в отличие от предшествующего периода, приобрел резко отталкивающие черты. «До XIV века, – пишет Ф. Арьес, – образ разрушения, распада всего живого иной, чем в более позднее время. Прах, пыль, но не разлагающаяся масса, кишащая червями» [Арьес 1992, с. 125].
После всеевропейской чумы 1348 г. локальные эпидемии регулярно вспыхивали в разных городах Западной Европы на протяжении XIV–XVI вв. Благодаря этим регулярным «напоминаниям» чувство страха в сознании людей закрепилось и стало привычным, мысль о смерти заняла прочное место в сознании.
Осознание уродства смерти, страх перед ней породили обостренное восприятие красоты земной жизни. Другим следствием постоянного присутствия мысли о смерти без покаяния стало повальное пристрастие к азартным играм, культ случая, Фортуны. Если смерть может наступить в любой момент, без приготовления, то столь же неожиданной, случайной, может быть и удача. Поэтому надо ценить миг, дарованный Фортуной [Арьес 1992, с. 137]. Состояние риска, неопределенности стало обнаруживать свою притягательность. Историки отмечают стремительное распространение в Европе, начиная с конца XIV в., карточной игры. Старейшее упоминание об игральных картах можно найти в решении городского совета Флоренции от 23 марта 1377 г. На протяжении всего XV в. «игральные колоды, которые священнослужители именуют молитвенниками дьявола, распространяются в европейских странах подобно эпидемии» [Немировский 989, с. 229]. Этот факт свидетельствует о том, что азарт и стремление к индивидуальному риску, как и другие проявления игрового начала, стали характерны для массовой психологии в той же мере, как и рациональнальный расчет, осмотрительность и стремление к выгоде. Но, конечно, у разных людей, в разных общественных прослойках эти качества проявлялись в разной степени.
Еще одной новой чертой ренессансного сознания стало появление иронии, особенно характерное для второй половины XV в. [Борев 1970, с. 49]. Вот как пишет об этом французский философ М. Фуко: «До второй половины XV в., и даже несколько позже, над всем господствует тема смерти. Конец отдельного человека и конец истории принимают облик войн и эпидемий чумы… Но вот на исходе столетия всеобщая тревога вдруг резко меняет свою направленность: на смену смерти с ее серьезностью приходит насмешница-глупость. Открыв ту роковую неизбежность, с которой человек обращается в ничто, западный мир перешел к презрительному созерцанию того ничтожества, какое представляет собой само существование человека. Ужас перед последней чертой – смертью затаился в глубине неиссякаемой иронии; теперь он обезоружен заранее; он сам становится смешным, приобретая повседневные, ручные формы, повторяясь в каждый миг житейского спектакля, распыляясь в пороки, причуды и потешные черточки каждого человека. Небытие в смерти отныне – ничто, потому, что смерть уже повсюду, потому, что сама жизнь была всего лишь тщеславным самообманом, суесловием, бряцаньем шутовских колокольчиков и погремушек» [Фуко 1997, с. 36].
Примерно с середины XV в. образ смерти в западноевропейской культуре начинает вытесняться образом безумия. В конце Средневековья завершается развитие жанра сказок и моралите, посвященных определенным порокам: гордыне, жестокосердию, похоти и т. д. – и одновременно из него выкристаллизовывается новый жанр, в котором главной героиней становится Глупость. Венцом развития этого жанра стала «Похвала глупости» Э. Роттердамского. В фарсах и соти все более важное место занимает образ Безумца, или Простеца. С этим образом российский философ В. С. Библер связывает ту «возможность самоотстранения и самоостранения, что позволяет индивиду этой эпохи вырываться за пределы внешней социальной и идеологической детерминации и самодетерминировать свою судьбу, свое сознание, т. е. жить в горизонте личности. То есть быть индивидом, а не социальной ролью» [Библер 1990, с. 81–125].
Как это ни парадоксально на первый взгляд, но бедствия, связанные с чумой в Европе, сопровождались заметным повышением уровня жизни. Благодаря тому, что людей стало меньше, количество богатств на душу населения резко увеличилось. Ф. Бродель в главе третьей первого тома «Структур повседневности» на материалах многих достоверных исторических источников показывает, что в XV в. «роскошь обжорства» в Европе было доступна практически всем. «Таков парадокс, на котором приходится настаивать, ибо часто преобладает упрощенное представление, будто чем дальше углубляемся мы в средневековье, тем больше погружаемся в несчастья. На самом деле, если говорить об уровне жизни народа, т. е. большинства людей, истинным оказывается противоположное» [Бродель 1986].
Особенно много потреблялось мяса. «Во всех своих видах, вареным и жареным, соединенным с овощами и даже с рыбой, мясо подавалось в виде смеси, наложенной „пирамидой“ на огромных блюдах, получивших во Франции название mets» [там же].
В конце XIV в. в Италии и Франции появились тарелки – мелкие и глубокие, а также поваренные книги. Ф. Бродель в качестве примера приводит трапезу из шести перемен, описанную в поваренной книге «Menagier de Paris» (1393 г.): говяжий студень, слоеные пирожки, минога, две похлебки с мясом, белый рыбный соус плюс arboulastre – соус, приготовленный на сливочном масле и сметане, с сахаром и фруктовым соком [там же].
При этом Ф. Бродель замечает, что, по-видимому, в XV и XVI вв. такое потребление мяса не было роскошью, предназначенной лишь для богатых людей. В мясных лавках и харчевнях наблюдалось изобилие мяса – говядины, баранины, свинины, курятины, голубей, козлятины, молодой баранины, дичи. В XV в. в Сицилии кабан был настолько распространен, что кабанина стоила дешевле остального мяса в лавках. Ф. Бродель приводит данные долгосрочного (с 1391 по 1560 г.) прейскуранта орлеанского рынка, из которого видно, что помимо крупной дичи (кабаны, олени, косули) на рынке регулярно в изобилии была мелкая дичь: зайцы, кролики, цапли, куропатки, бекасы, жаворонки, ржанки, утки-мандаринки. Такое же богатство обнаруживает и описание венецианских рынков XV в.
Повышение жизненного уровня трудящихся после эпидемии чумы выразилось не только в изобилии мясной пищи, но в целом в значительном повышении заработной платы. Наблюдался большой дефицит рабочей силы, и труд резко возрос в цене. В конце XIV в. нормандские каноники сетовали, что не могут найти для обработки земли человека, который согласился бы работать за плату меньшую, чем зарабатывали в начале века шестеро служителей.