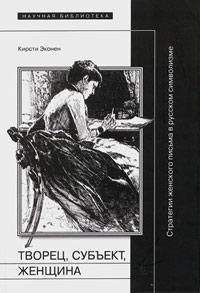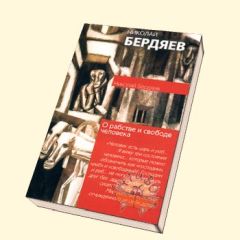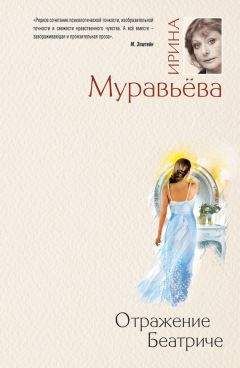Она знала, что есть женщины-поэты, но считала это самым жалким, ненормальным состоянием, как бедственная и опасная болезнь.
(Павлова 1964, 249)
В этом случае мысли персонажа соотносятся с положением самой Павловой как автора-женщины и тем самым отражают ее личный опыт. Восприятие Гиппиус как гермафродита следует рассматривать именно в таком культурном контексте.
В восприятии талантливой писательницы как гермафродита играет роль и отождествление женщины с природой. В основе такого мышления глубоко эссенциалистическое понимание пола, причем природа, женщина и уродство связаны друг с другом. Такую точку зрения выразил, например, Ш. Бодлер, утверждая, что женщина является природной, отталкивающей и вульгарной, то есть противоположностью денди. (Woman is natural, that is to say abominable. Also, she is always vulgar, that is to say the contrary of the dandy.) Обсуждая это высказывание Бодлера, Р. Фельски замечает, как в зависимости от пола оценки варьируются:
[i]n modernist texts women are identificated with vulgarity, nature and the tyranny of the body, allowing the aesthte to define his own identity in opposition to these same attributes.
(Felski 1995, 112)
Высказывание Бодлера и комментарии Фельски являются весьма показательными в случае Гиппиус, которая, как сказано выше, играла роль денди в русском символизме и в своем жизнетворчестве всячески пыталась «оторваться» от своей женской природы — и которую за ней все-таки «закрепили» в историографии через ту идеологию, с которой она боролась.
Можно предположить, что именно жизнетворческая игра Гиппиус вызывала подозрения ее в гермафродитизме. Очевидным является то, что для критиков и мемуаристов эссенциалистское понимание женщины исключало момент игры (жизнетворчества) в ее поведении и вместо этого позволяло воспринимать ее как «заключенную» в «дефектном» теле. В заключение рассмотрения жизнетворческой модели Гиппиус можно утверждать, что жизнетворчество «освободило» ее для исполнения различных ролей и для трансформирования жизни как материала искусства, но, с другой стороны, такая «свобода» вызывала у критиков и исследователей противоположную реакцию: они оценивали ее исключительность не как «гениальность», а как уродство.
Людмила Вилькина и Поликсена Соловьева в жизнетворчестве
Наряду с ярчайшими примерами жизнетворчества Н. Петровской и З. Гиппиус, в истории этого явления встречаются также имена некоторых других авторов-женщин. Стоит упомянуть, например, появление Е. Дмитриевой в литературе под именем Черубины де Габриак[173]. По инициативе М. Волошина Е. Дмитриева в течение 1909 года посылала стихи в редакцию журнала «Аполлон» под псевдонимом Черубины де Габриак, красавицы-католички. Ее стихи вызвали широкий интерес, но разоблачение мистификации Черубины и появление хромой Дмитриевой за маской означали конец успеха и творческий кризис для автора. Как автор Дмитриева надолго замолчала.
Под знаком жизнетворчества можно рассматривать также ультрафемининный стиль (жизни и поэзии) Мирры Лохвицкой[174]. У нее, как и у Дмитриевой, жизнетворчество связано с конструированием авторства с помощью подчеркивания и преувеличения женственных характеристик. Среди тех авторов, которые рассматриваются в данной работе, нет таких ярких примеров. В том смысле, как понятие определено для данного исследования, участие П. Соловьевой и Л. Вилькиной в жизнетворческих играх является скромным. Однако несмотря на то, что пересечение границы искусства и реальной жизни не было характерным ни для Соловьевой, ни для Вилькиной, обе они жили в культуре, где жизнетворческие практики были обязательны. Поэтому, например, мужская одежда Соловьевой или салонное поведение Вилькиной в другой культурной среде не воспринимались бы как жизнетворческая практика, но в контексте символизма исследователи придают им именно такое значение.
* * *
К. Бинсвангер (Binswanger 2002) использует слово «Lebenskunst», возможно отождествляя его с символистским жизнетворчеством[175], когда говорит о мужской одежде и авторских позициях и псевдонимах П. Соловьевой. По ее утверждению, конструирование авторства Соловьевой совершено по принципам жизнетворчества (см.: Binswanger 2002, 410).
Соглашаясь с Бинсвангер в том, что Соловьева действовала в культурной среде, для которой характерны различные жизнетворческие практики, я, однако, затрудняюсь увидеть, чем отличается описанное ею конструирование авторства Соловьевой от подобных случаев в любых других культурных периодах и от любого иного конструирования авторства. Почему деятельность Соловьевой можно было бы назвать жизнетворческой в том смысле, как его воспринимали символисты? Соловьева не выстраивала собственную жизнь по модели литературных произведений. Она также не переносила свои жизненные события в искусство, как это предполагает идея символистского жизнетворчества. Далее, в ее собственной жизни не было таких романов и любовных историй, которые бы могли заинтересовать публику. Ее связь с Н. Манасеиной казалась не столько любовной историей, сколько союзом товарищей по труду. Мужская одежда, мужские псевдонимы и маскулинная позиция не являются достаточными характеристиками жизнетворчества.
Мужская одежда Соловьевой, которая согласуется с ее маскулинным лирическим субъектом и ее маскулинным псевдонимом (А. Меньшов), находится в одном ряду с ее лесбийской сексуальной ориентацией. Мемуаристы, однако, не рисуют ее исполнительницей какой-либо роли. Скорее создается образ писательницы, не особенно участвовавшей в жизнетворческом театре. Ее творчество, в том числе те маски, которые рассматривает К. Бинсвангер, также не имеет прямого касательства к «реальной жизни». В конце концов, отсутствие жизнетворческого нарратива П. Соловьевой, быть может, свидетельствует лишь о том, что ее жизнь и особенно ее кросс-дрессинг или любовь к женщине не содержали таких моментов, которые вызвали бы отклики современников-мемуаристов, т. е. настоящих создателей символистского жизнетворчества. В ее кросс-дрессинге внимание обращается на то, что это, по-видимому, не было артистическим поведением. По крайней мере, он не стал объектом художественного воспроизведения, как кросс-дрессинг Гиппиус, который реализовался в акварели Л. Бакста. В то время как Гиппиус постоянно пересекает гендерные границы, такая мобильность не становится характерной для Соловьевой[176].
По сравнению с Соловьевой принципы поведения Л. Вилькиной можно интерпретировать как жизнетворчество в сфере социальной жизни. Е. Тырышкина утверждает:
В начале 1900-х годов образ жизни Л. Вилькиной определился: стилем существования становилось то, что называется «жизнетворчеством», во многом — компенсаторного характера. Это был богемный стиль жизни, где большое место занимает следование канонам искусства, моделирование поведения по образцам, собственный салон («легальная» возможность дилетантизма), театры, рестораны, литературные вечера. И везде — следование чужому.
(Тырышкина 2000, 146)
Данная цитата содержит то историко-литературное восприятие, благодаря которому имя Людмилы Вилькиной связывается с явлением жизнетворчества как артистическое поведение и сквозь которое она предстает как подражатель. В первую очередь уже в свое время Вилькину считали подражательницей Гиппиус. Брюсов, например, пренебрежительно отметил в дневнике, что «Людмила подражает Зиночке, лежит на кушетке у камина (…). Она говорила декадентские слова и кокетничала по-декадентски» (Гречишкин и Лавров 1976, 126). По сравнению с Гиппиус о жизни Вилькиной опубликовано мало данных. Мое исследование основывается главным образом на фактах, представленных в работах Е. Тырышкиной, а также на опубликованных ею письмах Вилькиной (см. также: Вилькина 2004). Эти материалы показывают, что, несмотря на внешние совпадения, жизнетворческая практика Гиппиус и Вилькиной отличалась в самой цели артистического поведения — в конструировании творческого субъекта[177]. Поэтому ясно, что жизнетворчество Вилькиной не становится частью ее художественного творчества.
Жизнетворчество Вилькиной воплотилось, например, в деятельности хозяйки литературного салона, в ее любовных отношениях и больше — в поведении. Вместе с мужем, поэтом Николаем Минским, Вилькина организовала салон на Английской набережной в Петербурге, где они жили. Среди посетителей были Бальмонт, Мережковский, Соколов-Кречетов, иногда Брюсов. Об активности или об оригинальности хозяйки в истории литературы не осталось следов. В этом отношении сравнение с салонной деятельностью Гиппиус не кажется релевантным.
Зато любовные сюжеты жизнетворчества этих двух авторов не только похожи, но и переплетены друг с другом: Гиппиус имела любовные (или «влюбленные») отношения с Минским, мужем Вилькиной, а Мережковский — с Вилькиной (см. публикацию: Письма Мережковского к Л. Н. Вилькиной, 1994). Подобно Гиппиус и Мережковскому, Минский и Вилькина также расширили свой союз для третьей участницы — Зинаиды Венгеровой (родственницы Вилькиной, ставшей женой Минского после смерти Вилькиной). Подобно Гиппиус, Вилькина имела любовную связь с гомосексуальным мужчиной — с Сомовым (см.: Тырышкина 2002, 123–138). Однако в поведении Вилькиной нельзя увидеть той попытки пересечения и смешения границы гендерного порядка в целях достижения субъектной позиции, которая была свойственна для всего жизнетворческого поведения Гиппиус. Другими словами, жизнетворчество Вилькиной не было целенаправленным конструированием авторства и подчеркиванием авторитетности. Оно также не стремилось к перестройке гендерного порядка (символистского дискурса)[178].