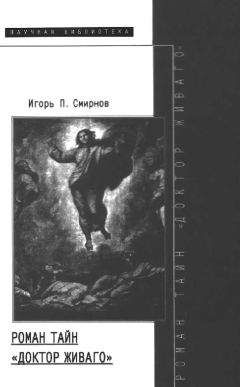В невиновности Мити убеждены оба его брата, Алеша и Иван, и его невеста, Грушенька. Остальные держат его за отцеубийцу. Истина для Достоевского — на стороне семьи. С ошибающимся народным хором конкурирует в «Братьях Карамазовых» род — первобытный, ведающий истину.
1.1.2.
М. М. Бахтин вставил «Братьев Карамазовых» в рамки «Менипповой сатиры»[277], каковая, по его словам, производит испытание носителя философской правды в разных исключительных жизненных ситуациях. Мысль М. М. Бахтина кажется, на первый взгляд, чрезвычайно меткой, однако лишь до тех пор, пока мы не задумываемся над ценностным содержанием испытаний, которым подвергаются герои «Братьев Карамазовых». Оно разрушительно, какая бы идея ни испытывалась. Тленность тела Зосимы провоцирует Алешу на сомнения в вере. Смердяков подталкивает Ивана на отъезд в Чермашню с тем, чтобы приобщить его отцеубийству и тем самым заставить атеиста-философа сыграть роль низкого преступника. С точки зрения Достоевского, испытание опустошает и религиозность, и атеизм, не верифицирует ни то ни другое и, таким образом, вместо того чтобы быть критическим пунктом в развитии большой идеи, само претерпевает кризис. Срок для проверок еще не наступил. Именно поэтому Митя должен отказаться от задуманного им самоиспытания, от взятия на себя чужой вины, от страдания — и принять предлагаемый ему план побега в Америку. Испытание истины в жизненных ситуациях придает ей сюжетность, позволяет олитературить философию и религию, провести их, так сказать, через обряд инициации — прообраз сюжетности. Достоевский не допустил этого олитературивания, полемизируя если и не с начальной мениппеей, то, во всяком случае, с ее продолжением в «Кандиде» Вольтера и в других романах нового времени о приключениях идей: с представлением о том, что философский постулат может быть опровергнут или доказан в художественном нарративе.
1.1.3.
Противопоставив «Братьев Карамазовых» «Кандиду», мы ввязались в спор не только с М. М. Бахтиным, но и с Л. П. Гроссманом, назвавшим все романы Достоевского «авантюрно-философскими»[278], а также с В. Е. Ветловской, которая определила последнее произведение Достоевского как «философско-публицистический роман»[279].
Впрочем, В. Е. Ветловскую, безоговорочно дифференцировавшую Ивана и Алешу как негативное и позитивное начала в мире «Братьев Карамазовых»[280], философичность текста интересует не так сильно, как его публицистичность. В. Е. Ветловская привела множество остроумных аргументов, с помощью которых она постаралась доказать, что Достоевский сообщает авторитетность словам Алеши и компрометирует высказывания Ивана. Многие из этих доводов выглядят односторонними. Так, например, Иван, вероятно, прихрамывает, что свидетельствует, по В. Е. Ветловской, о его сугубо дьявольской природе, которая лишает читателя права на малейшее согласие с его утверждениями о мире[281]. Но хромота Ивана амбивалентна. Ведь и Зосима слаб ногами. Плохо способны к хождению и многие иные персонажи «Братьев Карамазовых» (младшая и старшая Хохлаковы, члены семейства Снегирева, слуга Григорий, купец Самсонов[282]). Закономерно предположить, что мотив припадания к земле и неспособности от нее оторваться делает самых разных героев Достоевского, в том числе и Ивана, одинаково приобщенными Почве, естественно возрождающему началу (Митя, хотя и не хромает, тем не менее стережет Грушу и встречает Алешу возле дома, обладательницей которого была «одна городская мещанка, безногая старуха» (14, 95); Алеша бросается на землю и долго остается в этом положении после временного разрыва с отцом Паисием).
Однако более, чем односторонность отдельных наблюдений В. Е. Ветловской, для нас существенно здесь то, чего она не наблюдает при анализе «Братьев Карамазовых» вовсе: мы имеем в виду принципиальную неразъединяемость ложных и истинных высказываний, на которой настаивает Достоевский.
Roman à thése, роман, как говорили в XIX в., с тенденцией, четко размежевывает истину и фальшь[283]. Что касается Достоевского, то заведомая, казалось бы, фальшь речи еще не означает, что в словах героя нет ни грана правды. Хохлакова, которая посылает Митю, нуждающегося в деньгах сию минуту, на золотые прииски, попадает в точку, несмотря на всю неадекватность ее слов данным здесь и сейчас обстоятельствам: Митю осуждают на отбывание каторги в Сибири, в краю золотоискателей. И наоборот: самый как будто правдивый человек (как, скажем, Григорий) становится лжецом (слуга Федора Павловича губит Митю своим ошибочным показанием о якобы открытой калитке).
То, что верно применительно к второстепенным персонажам (сходные примеры легко продолжить), справедливо и в отношении героев-идеологов. Иван пишет двусмысленную статью о превращении государства в церковь. С одной стороны, статья может быть истолкована как «что-то […] похожее на социализм» (14, 58). Скорее всего, эта интерпретация, высказанная Миусовым, подразумевает антропологию Фейербаха, согласно которому государство было изначально сакральным само по себе, вне веры в Бога, и станет снова таким же после падения религии[284]. С другой стороны, соображения Ивана интерпретируемы и как призыв к установлению теократии — таков подход к ним отца Паисия, формулирующего ту программу переделки мира, которая лежит в основе всего текста Достоевского[285]. Аналогичным образом лжеистинна и речь Алеши, обращенная к Мите (в главе с характерным названием «На минутку ложь стала правдой»). После суда Алеша отговаривает брата подражать Христу, убеждая его скрыться в Америке, поскольку-де в этом случае у Мити не будет соблазна возгордиться принятой на себя мукой. Митя называет Алешу «иезуитом» (15,186), против чего тот не возражает. Алеша спасает невинно осужденного и, следовательно, избавляет мир от несправедливости. В то же время он воспроизводит жест сатаниста, Великого инквизитора, отпустившего Христа из темницы. Imitatio Christi отрицается Алешей так же, как и вождем (пейоративно оцененных в «Братьях Карамазовых») католиков, заботящимся лишь о хлебе насущном (ср. желание Мити стать в Америке хлебопашцем).
Итак, Достоевский преподносит читателям высказывания героев, которые сами себя опровергают. Высказыванию как таковому нельзя вполне доверять. Слово у Достоевского неоднопланно, иррефлексивно. Если «Братья Карамазовы» и публицистический текст, то он речь, направленная против речи, которая претендует на самодостаточность. У слова нет самоценности, т. е. эстетического достоинства. Его истинность или ложность полностью зависят от прагматики (от того, кто его воспринимает, от того, для чего оно говорится, от того, какие события последуют за его употреблением, от того, в каком состоянии его произносят (Григорий, которому калитка померещилась незапертой, был пьян)). Достоевский предвосхитил позднего Виттгенштейна (1958), пришедшего к убеждению в том, что смысл слова — в его использовании[286].
1.2.1.
Главное свойство человека, по Достоевскому, — его трансгредиентность, нахождение по ту сторону всего. В терминах самих «Братьев Карамазовых» человек «безудержен» (15,126)[287]. Он выражает свою трансгредиентность в выходе из себя, в аффектах (в страстях, которыми охвачено семейство Карамазовых; ср. особенно: 15, 17–18). Страсть толкает на преступление, каковое есть лишь крайность крайности, манифестация нашей потусторонности. Вместе с тем не-здесь-пребывание человека делает его органически религиозным. Преступление и вера не разделены зияющей пропастью.
Конструируя свою антропологию, Достоевский учитывал «Этику» Спинозы, которая требовала от человека избавиться от страстей, с тем чтобы он мог стать подобным бесстрастному Богу. Ориентация Достоевского на Спинозу несомненна постольку, поскольку отрицательное отношение к религиозному чуду в «Братьях Карамазовых» берет свое начало в «Тгасtatus Theologico-Politicus» (1670), где Спиноза противопоставил вере в чудо веру в Бога, который не допускает исключения из Его правил, из законов божественной Природы. Но в отличие от Спинозы Достоевский не полагается на человеческий разум и не убежден в том, что главная наша заслуга — в самосохранении и самоудовлетворенности. Если страсти и снимаемы, то только с помощью внешней (церковной) власти над человеком. Достоевский и признает, и не признает Спинозу. В плане усвоения Достоевским «Этики» учение Зосимы о любви к Земле близко не одним лишь идеям Франциска Ассизского, как обычно и вполне справедливо считается («Laudatio si, mi Signore, // per sora nostra matre terra»[288]), но и пантеизму Спинозы, его неразличению Творца и творения, его пониманию Бога как субстанции, его уверенности в том, что в natura naturata отражается natura naturans.