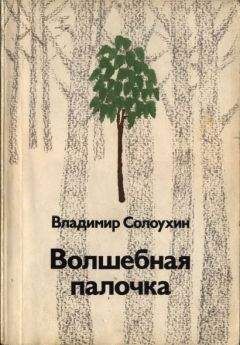Вознесенского немало критиковали. Но критики подчас изумляют меня. Либо они действительно не понимают произведения, о котором пишут, либо делают вид, что не понимают.
Недавно мне пришлось прочитать одну критику на стихотворение Вознесенского о Гоголе, вернее — о его похоронах. Чего-чего только не было в этой критике, кроме существа дела. Упомянут в стихотворении стакан с нарзаном, тотчас доказывается, что Гоголь вовсе нарзана не любил. Упомянуто, что двое выпили на могиле Гоголя, тотчас — гром и молния: критик не слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь выпивал на могиле великого писателя. Строки:
Под Уфой затекает спина,
Под Одессой мой разум смеркается, —
вызвали недоумение критика. Тотчас он пускается в напрасные исследования, что, да, в Одессе Гоголь бывал и там писал второй том «Мертвых душ», но в Уфе, оказывается, не был никогда. Так при чем же Уфа и почему не Бузулук?
Между тем оставлены без внимания главные строки стихотворения:
Грешный дух мой бронирован в плоть,
Безучастную, как каменья,
Помоги мне подняться, господь,
Чтоб упасть пред тобой на колени.
В этом противоречии весь Гоголь! Лучше о нем никто еще не сказал, по крайней мере — в поэзии.
Если уж критиковать Вознесенского, то за то, что он часто формалистичен в самом прямом и дурном смысле этого слова. У него бывает, что «хлесткий» образ, найденный им, существует сам по себе и для себя, не неся в конструкции стихотворения никакой нагрузки. Если «антрацит» и «буксирующий мотоцикл» помогали раскрыть образ Петра, горенье, стремительность его деятельности, то, скажем, образ, что чайка над морем, как плавки бога, не содержит в себе ничего. За этой, может быть, остроумной находкой ничего больше нет: ни второго плана, ни глубины, ни мысли — ничего. Это то, что в разговоре называется «штучка-мучка». Такая же штучка, когда бутерброд с красной икрой спускается по пищеводу, как лифт с человеком в красном свитере. И совсем уж поэзия превращается в баловство и забаву, когда из строчек складываются разные фигуры: петухи, пароходики. Даже странно для такого талантливого поэта. Словно не хватает изобразительных средств.
Часто изменяет Вознесенскому и чувство меры, я бы даже сказал — чувство приличия. О пресловутой девочке, писающей по биссектриске, уже справедливо писал Сергей Наровчатов. Он правильно сказал тогда, что обычно в таких случаях отворачиваются, а не вперяют исследовательский поэтический взгляд. Или вот это, из стихотворения «Языки»:
У, язык с жемчужной сыпью,
Как расшитая бисером византийская туфелька,
У, изящный музычок певички с прилипшим к нему,
Точно черная пружинка, волоском.
Извините. Занавес опускается. Противно, неинтересно и недостойно.
Чтобы не заканчивать разговор о стихах Вознесенского этими строчками, возьмем одно из последних стихотворений поэта «Выпусти птицу», для того чтобы еще раз задать Вам, любителю поэзии, все тот же вопрос: что в этих стихах абстрактного, заумного, шарлатанского, непонятного, вредного?
Современная девчонка покупает на базаре дорогую птицу и выпускает ее на волю. Девчонка характеризуется одной, но яркой деталью. Она «с прядью плакучей». Плакучая ива нам известна, поэтому сразу представляем себе и героиню стихотворения. В дальнейшем ее образ лепится за счет легкого жаргона, свойственного некоторой части городской молодежи, а само стихотворение строится на экспрессивном приеме, когда три строки каждой строфы утверждают одно, а четвертая строка утверждает другое, противоположное, и опровергает тем самым утверждение первых трех строк.
Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметисовая четвертная.
«Выпусти птицу!»
………………………………………
Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люд сматерится,
будет обед твой — булочка в полдник.
Ты понимаешь? Выпусти птицу!
………………………………………
Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!
………………………………………
В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!
Дальше уж Вознесенский в чистом своем, так сказать, «классическом» виде:
Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится,
выпустив птицу.
Вот, значит, я и задаю Вам этот вопрос: что вредного Вы находите в этих стихах? По-вашему, лучше, если бы поэт рекомендовал поймать птицу? Посадить в клетку? Непонятны мне в этом случае не Вознесенский, а Вы.
Я должен попросить у Вас извинения за то, что воспользовался Вашим письмом, и поблагодарить: оно дало мне повод высказать то, что давно хотелось высказать.
Юван Шесталов — поэт манси
Итак, манси.
Рука, тянется к спасительному энциклопедическому словарю. «Брокгауз и Ефрон»: «Мансы или манзы — так называют себя вогулы в сев. части Тобольской и Пермской губ.».
Немного. Поищем на букву «В»: «Вогулы, иначе вогуличи — исчезающая народность финского племени в России; живет главным образом на восточном склоне Северного Урала… Предпочли передвинуться на восток, где сравнительно более глухая и нетронутая пустыня представляла необходимые удобства для их жизни, так как главным промыслом их всегда была охота… Из некультурных и малочисленных инородческих племен России ни одно не приобрело такой известности в науке, как вогулы, вследствие предполагаемого их родства с венграми… Венгры и В. — народы близко родственные. Число В., живущих ныне в Российской империи, определяется обыкновенно 6500; но так как значительная часть их — охотники, т. е. народ не оседлый, учет которого вообще труден… среднего или же высокого, крепкого сложения… отличаются на охоте замечательной неутомимостью… на местах временных стоянок устраивают берестяные юрты или шалаши. Главное домашнее животное — собака; без нее, так же как и без ружья и топора, В. не выходит из дома… Находятся в оживленных сношениях с русскими торговцами… На Конде в едва проходимых лесах находится, как говорят, главный идол В.; другой важный идол был около верховья реки Сосьвы».
Можно только строить предположения, почему большая часть племени ушла на Дунай, а меньшая часть осталась на месте. Не захотели расстаться с родными местами? Оставлены, чтобы охранять главного идола? Оставлены, чтобы не терять права на землю, если бы пришлось возвратиться? Чтобы хранить обычаи? Сохранить язык? Остаться в виде огонька, угольков, если пламя, оторвавшись и улетев, погаснет где-нибудь на холодном ветру истории? И что больше — романтического или трагического в этой судьбе?
Письменности не было. Но когда нет письменности, вовсе не значит, что нет поэзии. В обрядах, в песнях, в игрищах, в доброй лесной фее Миснэ, в загадках, в пословицах, в поверьях живет и сохраняется душа народа. Для самого себя у народа есть язык. Народ не безмолвен, но для того чтобы он рассказал о самом себе другим народам, нужна литература, нужны поэты — голос народа, его глаза, уши, сердце, язык.
Впрочем, функция такого поэта не ограничивалась бы только тем, что посредством его народ рассказывал бы о себе самом. Гораздо важнее тут функция самосознания. Фольклор и поверья, игрища и капища — это все еще в области, так сказать, интуиции. А сознает же себя всякий народ только в области настоящего большого искусства.
Поэты у манси были, конечно, и до этого на протяжении веков. Может быть, некоторые из них становились шаманами, может быть, их эмоциональные силы расходовались в созерцании природы и одухотворении ее. Но с обретением письменности можно было ждать настоящего поэта, который вберет в себя все те духовные, эмоциональные, поэтические драгоценности, что были накоплены за века, и на протянутых ладонях покажет их другим, большим и малым народам. Таким первым поэтом народа манси стал Юван Шесталов.
Письменная поэзия и духовная культура — вещи разные. Став поэтом, что называется «письменным», Юван стал наследником той духовной культуры своего народа, того культурного опыта, который откристаллизовывался на протяжении сей истории. Шесталов для манси — голос, язык и — как бы ни было высоко и многозначительно это слово — основоположник его литературы.
В сердце матери сердце родилось мое,
В сердце доброй Миснэ сердце родилось ее,
В сердце народа родилось сердце Миснэ лесной,
А сердце народа родилось в сердце земли родной.
Строго говоря, как в маленьком семечке уже находится будущий ствол, так в этой строфе уже заключены все будущие строки, строфы, стихи, поэмы, книги Шесталова. Они примут разнообразные очертания, разную форму, будут насыщены разными образами, мыслями и чувствами, но все эти образы, мысли и чувства уже предугаданы в этой строфе.