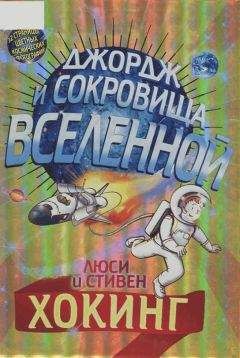как в теории Максвелла рассматривались электромагнитные волны неограниченно высоких частот, получалось, что общая излученная энергия, просуммированная по всем частотам, должна быть бесконечной – результат очевидно невозможный. Это и было второй «тучкой» из двух замеченных лордом Кельвином на безоблачном горизонте классической физики. Сложившаяся ситуация получила название «ультрафиолетовой катастрофы» – так как самые высокие частоты видимого света соответствуют фиолетовому цвету, термин «ультрафиолет» относится к еще более высоким частотам.
Тогда Планк совершил то, что он впоследствии описал как «акт отчаяния». Он выдвинул предположение невероятной смелости и новизны: что свет, как и все другие электромагнитные волны, может излучаться только в виде дискретных квантов и что энергия каждого кванта тем выше, чем больше частота этих волн. Квантовая гипотеза Планка резко уменьшила излучение высокочастотных волн, тем самым устранив ультрафиолетовую катастрофу. В 1905 году Эйнштейн пошел еще дальше: он показал, что электроны, движущиеся в металлах, тоже поглощают свет только в виде дискретных квантов, которые он описал как крохотные частицы – фотоны. Так что получалась любопытная ситуация: в первых же идеях квантовой физики свет представал как нечто, имеющее свойства не только волн, но и частиц. Это вносило некоторую неразбериху.
Смятение еще усилилось, когда подобно тому, что Планк сделал в отношении света, датский физик Нильс Бор использовал идею квантов для объяснения существования устойчивых атомов – еще одного очевидного свойства физического мира. Бор, в честь которого даже назван химический элемент борий [93], учился в Манчестере у британского физика Эрнеста Резерфорда, который экспериментально установил, что внутренняя структура атома представляет собой в основном пустоту с крохотным ядром посредине. Резерфорд представлял себе атомы в виде миниатюрных планетных систем, в которых отрицательно заряженные электроны обращаются по орбитам вокруг плотного центрального ядра, несущего положительный заряд. Так как противоположные заряды притягиваются, электроны удерживаются на орбитах вокруг ядра. Но незадача была в том, что, согласно максвелловской классической теории электромагнетизма, движущийся по орбите электрон излучает энергию, что должно заставить его двигаться по спирали к ядру и в конце концов столкнуться с ним. Значит, все атомы во Вселенной должны были очень быстро коллапсировать, и нас бы не существовало. Чтобы разрешить это очевидное несоответствие реальности, Бор предположил, что электроны не могут обращаться вокруг ядра по орбитам любого радиуса, а только на определенных расстояниях. Другими словами, Бор квантовал возможные электронные орбиты. Теперь электроны уже не должны были падать на ядра по спирали, атомы были спасены от быстрого – теоретического – коллапса, a Бор в 1922 году получил за свое открытие Нобелевскую премию.
В 1911 году по приглашению бельгийского промышленника Эрнеста Сольвея пионеры квантовой теории собрались в Брюсселе на одну из самых первых международных физических конференций. Это было время, когда международное сотрудничество культивировалось в Бельгии на уровне государственной политики. Сольвей был свободомыслящим мечтателем, который, впрочем, сколотил состояние на том, что изобрел новый процесс синтеза кальцинированной соды и создал разветвленную сеть ее производства и доставки. Потом он отошел от дел и стал заядлым альпинистом – несколько раз совершал восхождения на Маттерхорн и даже сумел увлечь альпинизмом бельгийского короля Альберта I, что в конечном счете привело к непредвиденным и катастрофическим последствиям [94].
Первый Сольвеевский конгресс, проходивший в шикарном отеле «Метрополь» в центре Брюсселя, быстро приобрел поистине легендарный статус: именно на нем ученые наконец осознали грандиозное революционное значение ранних квантовых идей. Он обозначил водораздел между классической физикой XIX века и физикой квантов, которой суждено было царить в веке XX. Председательствовал на конгрессе знаменитый голландский физик Хендрик Лоренц; в его вступительной речи ясно слышались растерянность и ошеломление, которые этот мэтр классической физики чувствовал при первом столкновении с квантовым миром. «Современные исследователи сталкиваются со все более и более серьезными трудностями, когда пытаются описать движение малых частиц вещества… В настоящее время мы еще далеки от полностью удовлетворительных результатов… Напротив, мы сейчас видим, что оказались в тупике: старые теории оказались не в состоянии проникнуть сквозь тьму, обступившую нас со всех сторон» [95]. Однако на этой конференции, обсудив все, не договорились ни о чем. По-прежнему не было согласия по вопросу о том, можно ли каким-то образом подлатать классическую физику, чтобы она могла приспособиться к существованию квантов. Общее настроение хорошо выразил Эйнштейн: «Квантовая болезнь выглядит все более безнадежной. Никто ничего, в сущности, не знает. Вся эта история доставила бы наслаждение отцам-иезуитам. Общее впечатление от конференции – плач на развалинах Иерусалима».
Все изменилось в середине 1920-х, когда новое поколение квантовых физиков разработало для описания взаимодействия атомов и субатомных частиц фундаментально новый аппарат: квантовую механику.
Центральным положением новой механики стал знаменитый принцип неопределенности, сформулированный молодым немецким гением Вернером Гейзенбергом: невозможно одновременно знать и точное положение частицы, и ее скорость. Сам Гейзенберг выразил это так: «Чем более точно определено положение [частицы], тем с меньшей точностью в этот момент времени известно ее количество движения [или скорость], и наоборот» [96]. Максимум, на что можно надеяться в квантовой механике, – это «размытая картинка», в которой положения и скорости частиц известны приближенно.
В сущности, все измеримые величины подвержены квантовой неопределенности в степени, определяемой принципом Гейзенберга. Эту неопределенность невозможно устранить более внимательным рассмотрением ситуации или измерением параметров частиц при помощи какого-нибудь хитроумного способа, позволяющего обойти указанный принцип. В этом отношении дело обстоит не так, как, скажем, при случайных изменениях курсов акций на фондовой бирже, которые только кажутся непредсказуемыми, – просто люди не располагают всей полнотой информации, необходимой для вычисления будущего поведения курсов ценных бумаг. Квантовая неопределенность Гейзенберга имеет совершенно иную, фундаментальную природу. Соотношение Гейзенберга налагает жесткие ограничения на количество информации, которое в принципе можно извлечь из физических систем. Получается любопытная вещь: квантовая механика оказывается теорией, которая рассказывает нам не только о том, что именно мы знаем, но и о том, чего мы не можем узнать. Именно эта странная особенность окажется ключевой, когда в главах 6 и 7 мы будем рассматривать мультивселенную с квантовой точки зрения.
Великолепным достижением основателей квантовой механики середины 1920-х было описание этой квантовой «размытости» в рамках соответствующего математического формализма. Нет ничего удивительного в том, что построенная ими теория давала гораздо более текучую и скользкую картину механики, чем та, которую предлагал ее привычный классический вариант. Например, квантовая механика потребовала забыть о старинной мечте научного детерминизма, об идее, что наука должна уметь давать точные и определенные предсказания будущего хода событий. Взамен появилось новое представление: мы можем предсказать лишь вероятности различных возможных исходов измерений. Квантовая механика утверждает, что, если мы снова и снова повторяем один и тот же эксперимент, результат