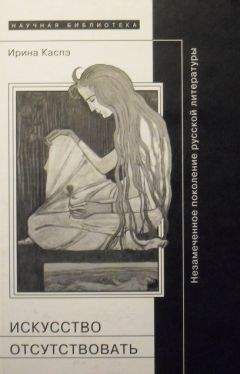Итак, значения, которые присваиваются актуальному письму, непрерывно балансируют между областью высоких ценностей и категориями небытия, отсутствия, отрицания. Литература сохраняет свой высокий статус, только будучи невидимой, незаметной, вытесненной. В распоряжении книжных и журнальных рецензентов, утративших интерес к «приемам» (к «литературности»), остается фактически единственный критерий оценки вверенных им произведений: иногда он определяется как «душа». В зависимости от измеряемой на глаз степени душевного усилия произведения могут быть либо «живыми» (искренними, подлинными, реальными), либо «мертвыми» (просчитанными, механистическими, книжными). Собственно, признаки постоянно вытесняемой литературности более или менее четко определены: литературность — пространство выбора, свободного конструирования смыслов, иными словами — деятельности. Вытесняющая литературу «реальность», напротив, скорее ограничивает выбор: это опыт, который можно познать, испытать, пережить, зафиксировать, но которому нельзя сопротивляться, и тем более его нельзя выстраивать по собственному усмотрению.
Текст, прочитанный в полном соответствии с наставлениями авторитетных эмигрантских критиков, мог бы поставить своего читателя в тупик — рецензент «Современных записок», говоря о романе Юрия Фельзена, проницательно обнаруживает возможные затруднения: «Мы настолько привыкли к общепринятому кодексу литературных условностей, что совершенно их не замечаем. Роман Тургенева, по очень приблизительному воспроизведению жизни, может быть, столь же наивный, как детская сказка, развертывается для нас в живые и полновесные образы. И наоборот — обнаженная проза Розанова, „косноязычие от искренности“ Андрея Белого оказываются в конечном счете чистой и изощренной литературой. Есть какое-то противоречие, некая внутренняя бессмыслица в подобном стремлении уложить человеческие мысли и чувства в слова с такой тщательностью, чтобы между материалом и его конечной формой не ощущалось промежуточных стадий труда. <…> И напрасно Юрий Фельзен, выбирая, примеривая и выискивая самые „верные“ слова, напрасно загромождает свою повесть отступлениями, бесполезными психологическими деталями, признаками, полагаясь на их сочиненную непосредственность, — воображаемый герой его задыхается в разреженном литературном воздухе»[416]. Противоречие заключается в том, что любая попытка освоить новые, еще не интериоризованные литературой определения реальности будет выглядеть искусственной, намеренно сконструированной, а значит, «литературной». Тем самым становится понятно, почему всякий жест, предъявленный эмигрантскому сообществу в качестве новаторского, опирается на уже существующие, уже отработанные литературные языки (Юрий Фельзен, завоевавший репутацию «самого верного прустинианца», тут далеко не исключение). Именно конвенциональная литература оказывается в конечном счете невидимой, незамечаемой, неосознаваемой — тем самым слепым пятном, которое так легко совпадает с представлениями о реальности.
Таким образом, мы можем сказать, что литература сохраняет безусловную ценностную значимость, в то время как любые ее атрибуты (от метафоры до метаязыка) ценностную значимость полностью утрачивают. Именно поэтому к литературе могут быть применены только — воспользуемся эпитетом Адамовича — «отрицательные» операции (от упрощения до искоренения), и именно поэтому она воспринимается как путь и одновременно как препятствие на пути к «самому важному». Такие нормативные установки будут выражаться через декларативное стремление к «индивидуальному», «шероховатому», «невнятному» языку и параллельно через декларативное стремление к языку «универсальному», «нейтральному», «нулевому», «ясному». Оба полюса («письмо для себя» и «письмо для всех»), как мы помним, становятся ресурсами формирования мифологии незамеченности.
Теперь посмотрим, что происходит с образом литературы на менее декларативных, менее отрефлексированных уровнях. Несложно заметить, что под «новой эмигрантской литературой» подразумевается прежде всего «новая эмигрантская поэзия». Вопрос «Какие должны быть стихи?»[417] здесь обычно синонимичен вопросу «Какая должна быть литература?». Понятно, что при этом имеется в виду именно «лирика», как сказали бы сейчас, «малая поэтическая форма», — самый «автономный» литературный жанр, наименее зависимый от символов сиюминутного успеха[418], воплощающий «чистую», «высокую» литературность. Однако явное доминирование поэтического сочетается с попытками «превратить стихи в прозу», максимально приблизить их к прозаической, то есть, в понимании наших героев, нелитературной речи. Иными словами, мы вновь сталкиваемся с пустым, но чрезвычайно значимым образом литературы: знаки литературности преобладают — и при этом опустошаются, вычищаются, опровергаются, нивелируются. «Поэзия не вмещается ни в литературу, ни в жизнь, — объявляет Константин Мочульский, — „звуки сладкие и молитвы“, а кругом пустота»[419].
Поэтическое высказывание популярно еще и постольку, поскольку оно традиционно способно казаться прямым, искренним, «от первого лица». В прозе «молодых эмигрантских литераторов», разумеется, чрезвычайно востребованы модальности искреннего письма — дневниковые, эпистолярные, исповедальные. Производя впечатление недвусмысленных и прозрачных, эти тексты в самом деле испещрены маркерами серьезности, во-первых, и маркерами иронии, во-вторых: характерно, что для обоих целей используются одни и те же средства.
Роль таких недвусмысленных ориентиров играют знаки препинания, в первую очередь кавычки, которыми язвительный Набоков обильно украсил рецензию Христофора Мортуса[420]. Хотя ощутимое количество кавычек в нашей книге вызвано далеко не пародийными намерениями, нам придется скрепя сердце уделить особое внимание этой теме. Невероятно популярные в критических статьях 1920–1930-х годов кавычки сигнализируют обо всем, что выходит за рамки нейтрального модуса высказывания: с их помощью, конечно, помечается «чужое», «другое», но, кроме того, и наиболее значимое — «самое важное». Из публицистики кавычки переносятся в художественную прозу, обрамляя не только высказывания того или иного персонажа, но и отдельные слова в речи основного нарратора. Особенно привержен такому способу письма Юрий Фельзен, его пунктуация напоминает о Прусте и о Георгии Адамовиче одновременно. В романах Фельзена, имитирующих личный дневник («Обман») и частную переписку («Счастье», «Письма о Лермонтове»), кавычки создают ироничную дистанцию по отношению к тем или иным стереотипам, общим местам («…„Выводы“, „прилежное всматривание“, вообще прилежание мне даются необычайно тяжело: я от природы ленив и рассеян, <…> что скрываю от всех, особенно от преуспевающих „тружеников“…»[421]) и в тоже время маркируют смыслы настолько серьезные, что их можно выразить только при помощи штампов («…Среди стольких прославленных людей меня пленяют и трогают все одни и те же <…> только они нуждаются в том беспокойном, непрерывно-ищущем и несчастливом внутреннем движении, которое мы называем „божественным огнем“, „творческой способностью“…»[422]).
В поэтических текстах функцию опознавательных знаков выполняют скобки. Создавая иллюзию разговора с собой, настойчивого автокомментирования («О всех оставленных, о всех усталых… / (Я здесь, я близко, вспомни, назови!)»[423]; «Какой-то голос (совести?) затих»[424]; «Есть зачарованность разлуки / (Похоже на любовь во сне)»[425]), скобки могут восприниматься и в качестве «иронических» — именно так характеризует пунктуацию Анатолия Штейгера Юрий Иваск («И надо жить, как все, но самому / (Беспомощно, нечестно, неумело)»[426]).
Таким образом, знаки препинания регулируют степень включенности повествовательного и поэтического «я» в тот процесс объективации смыслов, который представляет собой высказывание, — то есть вызывают эффект присутствия (скобки) или отстраненного взгляда (кавычки). В обоих случаях пунктуация фиксирует точки разрыва между заданными характеристиками речи и идентичностью говорящего — на языке наших героев этот разрыв определялся бы как несоответствие между «содержанием» и «формой»: «форма» явно не поспевает за «содержанием», требует дополнительных комментариев, пояснений, оговорок, указаний на то, что задействованные «средства выражения» недостаточно точны и убедительны, вообще недостаточно приемлемы. Иными словами, и кавычки, и скобки сообщают о неготовности предпринять операцию перевода, освоения и присвоения смыслов: в результате этой операции исчезла бы и потребность в отстраненном взгляде, и необходимость дополнительно создавать иллюзию авторского присутствия через постоянные самоуточнения, самопояснения, оговорки. Фиксация разрыва между говорящим и процессом говорения, между пишущим и письмом вообще чрезвычайно значима для наших героев. Постоянный интерес вызывают вполне «модернистские» темы невыразимости, затрудненности или даже невозможности речи: так, Юрий Терапиано приветствует появление в «новой эмигрантской литературе» формул «не знаю», «не умею», «не могу об этом говорить»[427].