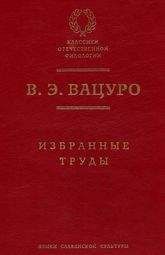Капитал Герцена оказался достаточным, чтобы заинтересовать главу парижской ветви банкирского дома Ротшильдов, которые на всю оставшуюся жизнь стали его финансовыми советниками. Под руководством Джеймса Ротшильда Герцен в конце 1840-х годов сделал свои первые и очень успешные вложения. Он купил дом в Париже, номер 14 по улице Амстердам, за 135 тысяч франков, прибрел государственные облигации США на 50 тысяч долларов и облигации других стран на меньшие суммы[211].
Ротшильд помог Герцену и в переводе за границу состояния матери. Происходила эта почти детективная история на фоне революционных событий во Франции. Герцену, как подданному империи, было велено вернуться в Россию из сотрясаемой антиправительственными выступлениями Европы. Герцен отказался, и тогда власти заблокировали счета Луизы Хааг, на которых находилась ее доля яковлевского наследства. В ответ на это Герцен передал свои долговые обязательства перед Луизой Хааг и права требования по ним Джеймсу Ротшильду. А тот приказал своему агенту в России добиться получения всех средств, что и было исполнено – после сложных переговоров с участием высших российских чиновников. Как показывают архивы банка, в историю были вовлечены министры иностранных и внутренних дел, юстиции, глава корпуса жандармов и лично Николай I. Свою роль сыграла и новообретенная прочность права собственности в России. Но в еще большей степени сказалось нежелание российских властей портить свою кредитную репутацию в Европе[212].
Как в этой истории выглядит Александр Герцен, горячий борец с рабством, автор антикрепостнического памфлета «Крещеная собственность», судить не будем. Он действовал как рациональный человек, что в российской дворянской среде было скорее редкостью. Кроме того, собственность как идея и собственность как основа частной жизни были для эмигранта-революционера совершенно разными вопросами. Стремление к утопии, которая будет построена на основе идеализированной русской общины в каком-то далеком будущем, – это цель. Он верил в эту отдаленную цель и пропагандировал ее. Собственность конкретного человека Александра Герцена – это возможность распространять свои взгляды и убеждать других, издавая книги и журналы. Это – просто средство, пусть и «неприятельское»: «Глупо и притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги – независимость, сила, оружие, а оружие никто не бросит во время войны, хотя оно и было бы неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я счел справедливым и необходимым принять меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства»[213].
Герцен ставил высокую цель и отделял ее от низких средств. Умение закрывать глаза на средства достижения цели оказалось в дальнейшем характернейшей чертой русской революционной интеллигенции, а позже стало политической позицией советских лидеров. Герцен, похоже, не видел проблемы в том, что его интеллектуальная и инвестиционная практики сильно расходятся. Вот как пишет об этом современный специалист по русской культуре Дерек Оффорд, исследовавший переписку Герцена с его банкирами в архиве Ротшильдов: «Инвестируя под руководством Ротшильда в активы поддерживаемых банкиром правительств, Герцен делал пусть и небольшие, но все-таки реальные вложения в поддержание стабильного порядка в Европе. Того самого порядка, к ниспровержению которого он как революционер призывал. Еще более сомнительными с этической точки зрения следует признать инвестиции в облигации Виргинии, американского штата, чья экономика, особенно в те времена, была построена на рабском труде»[214]. Отметим справедливости ради, что, оставшись за границей, Герцен перестал быть владельцем «крещеной собственности» в России – преодолеть секвестр, наложенный правительством на его костромское имение, не смог даже Ротшильд.
Другому великому противнику собственности, Льву Толстому, тоже не удалось разрешить противоречие между возвышенными духовными целями и материальными средствами. В 1880-х годах Толстой твердо принял отрицательный взгляд на собственность и стал следовать принципам, которые проповедовал. Сделать это Льву Николаевичу, отцу восьми детей, было нелегко. «Моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше», – писал старший сын Толстого, Сергей Львович[215]. На попытку писателя раздать имущество его жена Софья Андреевна ответила угрозой «учредить над ним опеку за расточительность, вследствие психического расстройства». Лев Николаевич тогда предложил жене переписать на ее имя дома, имения, землю и всю прочую собственность, но и от этого она отказалась: «Зачем же ты, считая все это злом, хочешь навалить это на меня?» Толстому оставалось прибегнуть к полумерам – такой полумерой была передача жене прав на издание всех произведений. Первое издание собрания сочинений Софья Андреевна Толстая подготовила в 1885 году. Последний, 12-й, том состоял из новых произведений, включая допущенные к печати отрывки из «Что же нам теперь делать?». Интерес к новым работам Толстого был огромный, но купить 12-й том можно было только вместе со всем собранием: Софья Андреевна отказывалась продавать его отдельно. Это вызвало в печати нападки на жадность «кающегося графа»[216].
Ирония положения Толстого заключалась в том, что и ближним и дальним граф был нужен как богатый человек. Деньги были нужны не только семье. К нему шли люди со всей страны, но чаще всего они просили не духовного совета, как он бы хотел, а материальной помощи. Подавляющее большинство писем и словесных просьб были просьбами о деньгах. Напрасно он несколько раз публиковал в газетах письма с напоминанием, что отказался от собственности и прав на сочинения.
Русский «досужий» класс не сумел стать ни экономической силой, ни политической, но ему суждено было быть силой литературной и философской. Собственность пришла на подмогу не экономике, а культуре. XIX век в Европе был временем бурного экономического и параллельного ему гражданского роста. Граждане вели напряженную и в конце концов успешную борьбу за расширение своего участия в делах государства. У нас же в это время создавались «Мертвые души», «Записки охотника», «Отцы и дети», «Война и мир», «Господа Головлевы», «История одного города». Все это написано собственниками-аристократами. Внутренняя свобода, давшая взлет свободе творчества в дореволюционное время, оказалась сильнее цензуры, сильнее законов экономики и общества. Русская литература заняла одно из ведущих мест в мировом творческом процессе и продолжает оказывать влияние на другие культуры. Монархическая политическая система, ставившая сословный порядок выше идеи развития, была для литераторов предметом критики. Собственность, будучи частью этой системы, не стала символом гражданства, права и участия в делах общества; не получила доброго имени ни как идея, ни как институт. Для одних она была легитимным механизмом удержания господствующего положения, для других – свидетельством глубокой несправедливости общественного порядка.
«Слова „моя лошадь“ относились ко мне, живой лошади, и казались мне так же странны, как слова „моя земля“, „мой воздух“, „моя вода“… Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать чего-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковы слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил: мое. И тот, кто про наибольшее число вещей, по этой, условленной между ними игре, говорит: мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так» (Лев Толстой, «Холстомер»).
К западу от российских границ политическая игра состояла в том, чтобы распространять действие прав собственности и равенства перед законом на все большее число людей – просто чтобы удержать власть. В России эта игра подразумевала ставку на то, что небольшая группа «лучших людей», получившая все блага и гарантии, поможет удержать власть своим покровителям. Эти люди обладали свободой, образованием, собственностью и безнаказанностью. Они могли зарабатывать, творить и путешествовать. Но их отношения с обществом были не проясненными в правовом смысле и отчужденными в человеческом отношении.
Русский был хозяином над русским, собственники и предметы их собственности говорили на одном языке, ходили в одну и ту же церковь. Разделение было сословным, но настолько глубоким, что заставляло чувствительных и образованных русских, принадлежавших к «правящему классу», как бы он себя ни определял, ощущать себя чужими в родной стране. Это чувство живо в русской публицистике и литературе со времен Петра Чаадаева до наших дней. «В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников… У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда» (Чаадаев). «Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию» (Гоголь). «Просвещение и общество, принявшее его в себя: оба носили на себе какой-то характер колониальный» (Хомяков)[217].