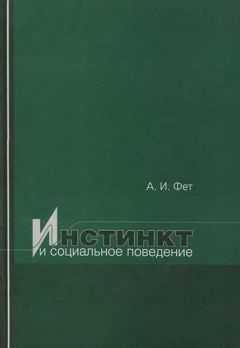Я переношусь мыслью во Францию, какой она была семьсот лет назад; я нахожу ее разделенной между небольшим числом семейств, владеющих землей и управляющих населением; право на власть переходит в ней по наследству из поколения в поколение; у людей есть единственное средство воздействовать друг на друга – сила; и единственным источником могущества оказывается землевладение.
Но вот утверждается и быстро расширяется политическая власть духовенства. Духовенство открывает свои ряды всем, бедному и богатому, простолюдину и сеньеру; через церковь равенство проникает в правящую среду, и тот, кто прежде прозябал бы, как крепостной, в вечном рабстве, восседает как священник среди благородных, и часто поднимается выше королей.
Со временем общество становится более цивилизованным и устойчивым, различные отношения между людьми усложняются и умножаются. Чувствуется насущная потребность в гражданских законах. Появляются юристы; они выходят из своих сумрачных судов и пыльных канцелярий, чтобы заседать при дворе государя, рядом с феодальными баронами, в их горностаевых мантиях и латах.
Короли разоряются в великих предприятиях; аристократы истощают свои силы в частных войнах; простолюдины обогащаются торговлей. Влияние денег начинает ощущаться в государственных делах. Коммерция становится новым источником могущества, и финансисты становятся политической силой, которую презирают и которой льстят.
Постепенно распространяется просвещение; пробуждается вкус к литературе и искусству; ум становится элементом успеха; наука превращается в орудие управления, умственные способности – в общественную силу; образованные люди начинают участвовать в делах.
И по мере того, как открываются новые пути к власти, снижается значение рождения. В XI-ом веке знатность не имела цены; в XIII-ом веке ее уже покупают; первое возведение в дворянство произошло в 1270-ом году, и, наконец, равенство приходит в правящую среду через самую аристократию. …
Можно заметить, что, пробегая страницы нашей истории, мы не встречаем за семьсот лет ни одного великого события, которое не шло бы на пользу равенству.
Крестовые походы и войны с англичанами истребляют аристократию и раздробляют ее земельные владения; учреждение общин вводит демократическую свободу в недра феодальной монархии; изобретение огнестрельного оружия уравнивает простолюдина и аристократа на поле сражения; книгопечатание дает равные возможности их способностям, и почта доставляет просвещение к порогу бедной хижины, так же, как к порогу дворца; протестантизм утверждает, что все люди равным образом способны найти свой путь к небу. Только что открытая Америка доставляет тысячи новых путей, ведущих темного искателя приключений к богатству и власти.
И если, начиная с XI-го века, вы посмотрите, что меняется во Франции через каждые пятьдесят лет, то вы не сможете не заметить, какая двойная революция происходит в состоянии общества. Аристократ опускается все ниже, простолюдин поднимается все выше. Каждые пятьдесят лет их сближают, и скоро они коснутся друг друга.
Все это относится не только к Франции. Куда ни бросим взгляд, повсюду видим ту же революцию, непрерывную во всем христианском мире».
В этой картине европейской истории Токвиль сосредоточивает внимание на буржуазии: для него «простолюдин» (roturier), борющийся против сословного неравенства, – это буржуа. Но Токвиль не был бы великим историком, если бы не видел под этим социальным конфликтом другой, не угасающий в течение всех этих столетий и выходящий на поверхность как раз в то время, когда были написаны эти строки. И вот что он прибавляет к нарисованной им картине:
«Разумно ли предполагать[37], что общественное движение, идущее из таких далеких времен, может быть задержано усилиями одного поколения? Можно ли думать, что демократия, разрушив феодальный порядок и победив королей, отступит перед буржуа и богатыми? Остановится ли она теперь, когда она стала столь сильной, а ее противники столь слабыми?».
Токвилю пришлось убедиться в правильности этого предсказания: он пережил 1848 год, когда на арену истории вышло «четвертое сословие». И он признается в своем бессилии предвидеть дальнейшее будущее:
«Куда же мы идем? Этого никто не знает; нам недостает для этого даже материала для сравнения: в наши дни равенство положений среди христиан превосходит все, что было в прошлые времена, и что было в любой другой части света: таким образом, величие уже свершившегося препятствует увидеть то, что еще может быть».
Как мы увидим, стремление людей к социальному равенству составляет не только содержание новой истории Европы, которой намеренно ограничился Токвиль. Это стремление проходит через всю историю человечества, и было бы неразумно предполагать, что в наше время этот процесс завершился. Мы должны уяснить себе, чтó могут добавить к нашему вИдению научные знания и исторический опыт полутора прошедших столетий.
Как мы видели, первоначальное устройство племени основывалось на принципиальном равенстве всех его членов. Конечно, в племени – как и в первоначальной группе – была уже естественная иерархия, определяемая полом, возрастом и относительной силой индивидов. Поскольку это была инстинктивная иерархия, она не вызывала недовольства. Когда в племени возникло разделение труда и начали выдвигаться более искусные и опытные исполнители отдельных полезных для племени функций, вытекавшие отсюда преимущества были непосредственно связаны с личностью человека; поскольку они были всем видны, такое неравенство тоже не вызывало протеста. Наконец, вожди и жрецы выбирались за личные качества, которые должны были подтверждаться на деле, и в небольшом племени эти качества были столь очевидны, что «выборы» не вызывали особых споров.
С численным ростом племен прямая "племенная демократия" становилась практически неосуществимой, поскольку члены племени лично не знали друг друга, дела усложнялись, и племя нуждалось в руководстве, особенно во время войны. При этом усилилась роль вождей и значение процедуры их выбора. Несомненно, стали возникать спорные ситуации, когда, например, на положение вождя могли притязать несколько примерно «равноценных» кандидатов. Соперничество и борьба за власть должны были весьма ослаблять те племена, где эти явления принимали острый и затяжной характер. Поскольку племена вели между собой войны, групповой отбор, несомненно, отдавал предпочтение тем из них, где вырабатывался закономерный механизм выбора вождей (а в некоторой степени и жрецов). Простейшим механизмом такого выбора была наследственность; это кажется нам естественным, потому что так было всегда, во всех известных нам племенах, а потом и во всех монархических государствах. Но надо заметить, что это культурный механизм, лишь использующий биологическую связь: животные не знают или быстро забывают своих родителей и не наследуют их положение в стаде. Культурная традиция нашего вида породила не только парный брак, необходимый для длительного воспитания потомства, но и прочную связь между детьми и родителями, сохраняющуюся на всю жизнь. Забота о детях естественным образом превратилась в помощь и покровительство, а подражание родителям – в усвоение их навыков и преимуществ. Таким образом, в основе «наследования власти» также лежит неотения.
Однако, преимущества рождения весьма неполны, поскольку генетическая наследственность воспроизводит дарования родителей лишь в среднем: сын может и вовсе не унаследовать качества своего отца, а культурная наследственность ненадежна, потому что воспитание не всегда достигает цели. Таким образом, механизм наследования власти, устраняя конфликты, часто приводит к другим невыгодным для племени результатам, что всегда было сильным доводом против монархии.
Между тем, этот механизм вступает в противоречие с моральными правилами всех племен, всегда осуждающими незаслуженные преимущества. Отдельные роды, пользуясь особыми способностями их родоначальника или случайными условиями, с помощью того же механизма наследственности стремятся получить, в ущерб остальным членам племени, как можно бóльшую долю власти и материальных благ. Но это противоречит инстинктивным стремлениям человека. "Простой человек" начинает ощущать развитие своего общества как неоправданное стеснение его свободы, а условия своей жизни как несправедливость.
Простейшим способом организации государства была монархия, и по этому пути пошли крупные племена, соединявшиеся в союзы. Первые государства сложились в IV тысячелетии до нашей эры в Двуречье (долинах Тигра и Евфрата) и в Египте (долине Нила). Об их возникновении мы мало знаем, потому что письменность была изобретена на тысячу лет позже. В этих долинах, удобных для земледелия, требовались большие ирригационные работы, которые можно было выполнить лишь совместными организованными усилиями многих племен. Историки предполагают, что именно эта потребность стимулировала образование первых государств. Это были государства оседлых земледельцев. Древнейшие известные нам государства возникли в Шумере около 3500 лет до нашей эры. По-видимому, власть племенных вождей превратилась там в наследственную; во всяком случае, в это время шумерская письменность – древнейшая из всех – свидетельствует о существовании городов-государств, возглавляемых царями, часто выполнявшими также функции верховного жреца местной религии. Царь командовал армией с помощью своих офицеров и распоряжался сельским хозяйством и ремеслами с помощью своих чиновников. В числе чиновников были писцы, первые работники умственного труда. Власть царя передавалась обычно от отца к сыну, или к другому члену царской семьи; без сомнения, привилегированное положение офицеров и чиновников тоже сделалось наследственным. Такие же небольшие царства возникли на Крите, примерно на пятьсот лет позже; о них мы знаем из более поздних источников, так как древнейшая критская письменность еще не расшифрована. В Египте до установления власти фараонов тоже существовали малые государства, называемые по-гречески «номами». Вероятно, так же обстояло дело в Китае.