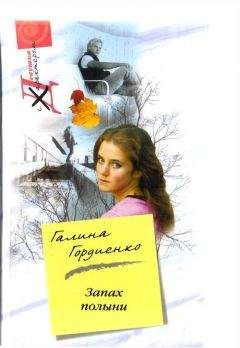— Суду все ясно, — мрачно пробормотала Таня. — Ты, в самом деле, вляпалась. Влюбилась то есть. По уши, кажется.
Сауле судорожно вздохнула.
— На кого хоть этот тип похож?
— Ни на кого, на себя. И от него полынью пахнет… — еле слышно выдохнула Сауле, по-прежнему пряча глаза.
— Ого! Это уже клиника! Если речь зашла о полыни…
Сауле и сейчас промолчала. Встала и начала накрывать на стол.
Хмурая Таня полезла в холодильник за сметаной. Машинально раскладывала по розеткам малиновое варенье и размышляла об услышанном. Поставила в центр стола высокую стопку блинов и озабоченно пробормотала:
— Хорошенькое дело! У Китеныша нарисовался дружок, которого он мечтает ввести в семью, а тебя в кои-то веки заинтересовал мужик, но другой…
Сауле молча разливала чай. Она так и не решилась сказать Тане, что на день рождения придет не одна.
Не с Женей, нет! В последнюю неделю они не сталкивались. То ли он уехал в командировку, то ли здесь был в командировке… Если так, значит, все их встречи случайны, и они больше никогда не увидятся.
Сауле горько улыбнулась: а она, дурочка, всю неделю честно ходила на работу в подаренном Таней костюме, как же — секретарша. Даже очки сменила. Вместо тяжелых пластмассовых с перевязанной дужкой, купила в оптике новые, легкие, в тонкой металлической оправе.
Правда, стекла темные, круглые, на пол-лица, но это чтобы спрятать глаза. Они ее даже не слишком уродовали, эти новые очки.
Волосы Сауле больше не припудривала и в тугой пучок не стягивала. Носила распущенными или перехватывала красивой заколкой на затылке, собирая в хвост.
Изредка она заглядывала в зеркало и тут же отворачивалась: собственное отражение пугало, смотрелось чужим, незнакомым, отталкивающим. И очки вдруг стали раздражать, лицо в них казалось слишком маленьким, а челка над темными очками — чересчур светлой и яркой.
Зато Сергей Анатольевич ее новый внешний вид горячо одобрил, но дальше дежурных комплиментов, к счастью, не пошел. Даже попытки не сделал пригласить ее куда-либо. А через день осторожно поинтересовался подругой: не зайдет ли она как-нибудь сюда, к Сауле.
Вернее, к Саше. Сергей Анатольевич по-прежнему называл свою новую секретаршу Сашей и даже Сашенькой.
Сауле не возражала. И когда к ней так же начали обращаться другие сослуживцы, тоже смолчала, никого не поправляя.
И правда, пусть она, пока работает секретарем, будет Сашей. Потом вернется Вероника, Сауле снова спрячется в своей маленькой каморке и станет собой. Ее опять перестанут замечать, и все вернется «на круги своя».
Внезапный интерес шефа Сауле не удивил. Она ничуть не сомневалась: из Тани в день совещания вышел прекрасный секретарь, сама Сауле со своей вечной робостью и зажатостью в подметки подруге не годилась.
И Сауле виновато сообщила Векшегонову, что Таня постоянно замещать ее не сможет. Ведь она работает.
В тот день ей просто повезло, у Тани был выходной, вот она и выручила Сауле.
Сергей Анатольевич выслушал несвязный лепет секретарши с непроницаемым лицом и вдруг в голос расхохотался: мол, не дай, боже, эту сумасшедшую девчонку на место Сашеньки!
Татьяна и в прошлый раз шокировала гостей, а Колыванов, глава фирмы, из-за нее вообще с совещания сбежал. Вечером позвонил и заявил, что, прежде чем соглашаться на подмену, нужно было пересчитать у девчонки синяки и ссадины, а потом посадить ее на место охранника, тот уж всяко лучше этой амазонки справился бы с должностью секретаря, подать кофе — дело нехитрое.
Сауле изумленно слушала, а Векшегонов снова удивил ее. Открыто сказал, что Таня чем-то зацепила его, и он хочет познакомиться с девушкой поближе. Конечно, лучше, если они с Сашенькой будут вдвоем, иначе эта дикарка и говорить с ним не станет, просто вышвырнет вон. Нет, даже с землей смешает, были уже прецеденты!
Пояснять сказанное Векшегонов не стал, Сауле так и не поняла, что между ними произошло в день совещания.
Поссорились? Татьяна на что-то разозлилась и, естественно, придержать свой язычок и не подумала, характер у нее…
Сдержанный, ровный со всеми Векшегонов Сауле нравился, и она подумала: почему нет? Она вполне может прийти к Тане на день рождения с ним, ну… как с хорошим знакомым. Тогда на Сауле будут меньше обращать внимания, а Татьяна…
Вдруг это ее судьба?
Колыванов с тяжким вздохом вернул акварели на шкаф, расставаться с ними не хотелось, но Никита сказал, что мать ни за что не согласится на выставку. Он завел было об этом разговор, но…
Мальчишка смотрел беспомощно, и Колыванов добродушно бросил:
— Ее право, Кит. Может, попозже решится, через год, скажем…
Никита пожал плечами, он очень в этом сомневался. Маме чуть плохо не стало, когда он завел речь о выставке. Хорошо, не стала проверять, на месте ли ее работы, зря он все-таки отдал их Евгению Сергеевичу без разрешения.
А может, и не зря. Картины мама продавать не будет, это точно, зато цветы свои — запросто, она для того разделочные доски и разрисовывает.
Никита благодарно посмотрел на друга: мама теперь сможет продавать свои работы не за пятьдесят рублей, а за тысячу, даже не верится.
Тысяча!
Вместо пятидесяти!
Мама сможет зарабатывать за жизнь только рисованием, как мечтала. И уйдет с работы. Будет спать сколько хочется, ложиться когда захочет. А летом они в самом деле поедут к морю!
Евгений Сергеевич принес адрес магазина, где охотно возьмут ее работы, и оставил для мамы телефон директрисы, он обо всем с ней договорился. А маминой старушке можно просто отдавать за доски деньги, покупая их не за десять рублей, как они продаются на рынке, а за тридцать, как сейчас, чтобы старушка ничего не потеряла.
Никита озабоченно, по-взрослому, вздохнул: иначе мама не согласится. Скажет — она нас выручила в трудную минуту, торговала моими работами на рынке, мерзла там, мокла под дождем, стояла в любую погоду…
Никита сам мог за маму все сказать, настолько хорошо ее знал. Мама странная. Анна Генриховна говорит — не от мира сего.
Ну и пусть.
Зато она очень, очень хорошая!
Жаль, маме и в голову не придет, что старушка не из-за нее на холоде провела всю весну. Ведь она и зимой там со своими досками сидела, к пенсии подрабатывала. Никита это сразу понял, Анна Генриховна тоже, Евгений Сергеевич об этой старушке вообще почему-то слышать не хочет, но мама…
Нет, пусть она платит бабе Нине свои тридцать рублей, не жалко!
Анна Генриховна из кухни крикнула:
— Ну и долго мне вас ждать? Чай-то стынет!
Голос у нее басовитый, совсем не женский, такому голосу генералы позавидуют, это Евгений Сергеевич так сказал.
Никита фыркнул: попробовали бы эти генералы его няньку не послушать! Вон Евгений Сергеевич ростом под потолок, а на кухню сразу побежал, хоть и шепнул Никите, что недавно завтракал и чая совсем не хочет.
И руки бросился мыть, едва Анна Генриховна на раковину покосилась. Ох и здорово у нее это получается — бровь приподняла эдак вопросительно, любому понятно, на что намекает…
Колыванов пил чай с неожиданным удовольствием, ему вообще нравилось в этой крохотной квартирке. Облупленная, давно требующая капитального ремонта, с жалкой разболтанной мебелью, она вопреки всему казалась уютной. То ли разросшиеся цветы на подоконниках, то ли неожиданно яркие прозрачные тюлевые занавески над чистыми, хорошо вымытыми окнами, то ли какая-то незримая аура, во что он никогда раньше не верил…
И старуха нянька такая колоритная!
И Кит-Китеныш, не рыба, не зверь морской, а мальчишка шестилетний с внимательными темно-карими глазами и круглой головой, волосы торчат как иглы у ежа…
Дотошный донельзя!
Колыванов бросил короткий взгляд на договор с магазином «Народные промыслы» и удовлетворенно ухмыльнулся: поделом старой ведьме! Не зря он заподозрил неладное, узнав от матери цену, не зря занялся небольшим расследованием, не зря потратил на это несколько дней.
Директриса позвонила ему, едва «художница» переступила порог магазина, как и договаривались. Так что старуха уже при нем попала в кабинет со «своими» работами. И при нем врала, какая она талантливая и несчастная, неоцененная вовремя и живущая теперь на копейки от проданных рисунков.
У Колыванова руки задрожали, когда он рассматривал тяжелую гроздь белой сирени, небрежно брошенную на грубый деревянный стол, он даже носом потянул машинально, ожидая услышать пронзительный и сладкий запах…
И покраснел, поймав себя на этом!
И вспомнил почему-то смешную очкастую девчонку-уборщицу, от ее волос тоже пахло сиренью.
Со старухой Колыванов связываться не стал, не имело смысла. Лично выкупил у нее обе принесенные работы и фальшиво улыбался, провожая старую ведьму до порога, только что руки ей не целовал.