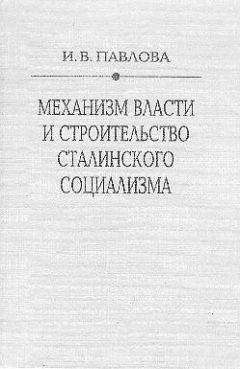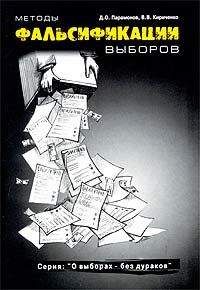В работе М. Чегодаевой «Два лика времени», посвященной истории советской литературы, встречается такой образ: «Бытие советского человека проходило одновременно в трех почти не соприкасающихся плоскостях, на трех “этажах” фантастического здания, каковым являл себя Советский Союз»[77]. Позднее историк О. Лейбович конкретизировал этот образ, превратив, по сути, в методологический принцип изучения (о чем более подробно в следующих главах): мир идей (светлого будущего), мир обыденный и мир криминальный, мир ГУЛАГа. При этом он подверг серьезной критике практику необдуманного применения термина «повседневность», уточнил научный концепт, стоящий за этой метафорой, интерпретируя его не только как «личностно ориентированные практики, в наименьшей степени подверженные воздействию современной им политической и даже экономической систем», но как «осознанный, прочувствованный, понятный для современников жизненный мир», в котором «сильно связующее начало, позволяющее людям соединять в одно целое искусство, политику, нравственность и религию»[78]. Такое толкование повседневности действительно приводит к впечатляющим результатам, когда методы изучения повседневности были распространены на самые разные категории людей, доказательством чему служат книги Ш. Фицпатрик[79], «Советские люди» Н. Козловой[80], «В городе М» О. Лейбовича[81], «Советская повседневность» И. Орлова[82], «Очерки коммунального быта» И. Утехина[83], «Послевоенное советское общество» Е. Зубковой[84], «Лагерная культура в воспоминаниях бывших заключенных» А. Кимерлинг[85] и многие другие.
1.5. Историография «повседневной жизни»
Влияние истории повседневности на общее поле исследований сталинизма оказалось достаточно весомым. Даже те из историков, кто оставался верен институциональному анализу, не избежали этого влияния. Постепенное накопление материала по истории повседневности, осознание того, что изучение повседневности не есть «бытописательство», что оно приближает историков к более полному пониманию эпохи, делает ее описание многомерным, «насыщенным» (по терминологии К. Гирца). Это же приводит и к переструктурированию предмета исследования. Теперь исследователи все чаще уделяют внимание глубокому изучению отдельных институтов, таких как СМИ, предприятие, семья, лагерь, отдельных социальных групп – крестьянства, рабочих, номенклатуры – либо вообще отдельных элементов жизни – праздников, мифов, отдыха. Отличительной особенностью таких работ следует считать комплексное изучение одной отдельно взятой проблемы с разных сторон с привлечением как «низового» материала, так и системного анализа. Причем путь к такого рода исследованиям прокладывают в равной мере и историки повседневности, поднимаясь от частных случаев к обобщениям, и «историки институтов», опускаясь за подтверждением своих оценок происходящего до действий простого человека. В качестве примера таких исследований можно указать труды уже упоминавшихся Ш. Фиц патрик, Н. Верта, А. Блюма, О. Лейбовича, а также работы, например, П. Соломона «Советская юстиция при Сталине»[86], Д. Фильцера «Советские рабочие и поздний сталинизм»[87], сборник «Советская власть и медиа»[88], К. Кухер «Парк Горького. Культура досуга в сталинскую эпоху 1928–1941»[89], Г. Янковской «Искусство, деньги и политика. Художник в эпоху позднего сталинизма»[90], М. О’Ма хоуни «Спорт в СССР»[91], С. Дэвис «Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941»[92], М. Роль фа «Советские массовые праздники»[93], Т. Горяевой «Радио России»[94].
Отдельно необходимо сказать о некоторых вариациях этого направления исследований. Прежде всего о междисциплинарных исследованиях, в которых делается попытка взять в качестве отдельного предмета исследования некоторые явления культуры или духовной сферы, имеющие неожиданное и злободневное звучание. В таких работах плодотворно применяются различные концепции из смежных наук (лингвистики, философии, антропологии, социологии), но отнести их к истории повседневности все же нельзя. Скорее в таких исследованиях речь идет о трансцендентальных категориях мышления, археологии знания, мифологии культуры. Так, в работе О. Хархордина «Обличать и лицемерить» делается попытка на основе анализа дискурсов советской (в основном сталинской) эпохи выяснить, как складывалась советская личность и специфическое понимание советского коллектива[95]. В сборнике «Образ врага», составленном Л. Гудковым[96], дается представление о генеалогии и бытовании одного из краеугольных образов советской пропаганды. В работе С. Бойм «Общие места: Мифология повседневной жизни»[97] проводится критический анализ мифологических представлений советской повседневности («мещанство», «быт», «русская душа»). В работе Л. Гудкова «Нега тивная идентичность» дается анализ условий и этапов становления идентичности советского общества[98]. В рабо те И. Жереб ки ной «Феминистская интервенция в сталинизм, или Сталина не существует» предпринята попытка выявить комическое в сталинском тоталитаризме и зарождение русского феминизма в недрах сталинского общества[99]. В сборнике «Проектное мышление сталинской эпохи»[100] анализируется статус науки и ее роль в становлении идеологии данного периода.
В рамках этого направления можно отметить и другие случаи позитивной «интервенции» на историческое поле со стороны представителей других наук. Например, опыт анализа языка Н. Купиной[101], Б. Сарнова[102], жанровый анализ Е. Суровцевой[103], анализ развития городов в сборниках «Город и деревня…»[104] и «Пермь как стиль…»[105], исследование политических закономерностей развития в коллективных трудах А. Ахиезера, И. Клямкина, И. Яковенко[106] и В. Ильина, А. Ахиезера[107].
Такие способы конструирования объекта и предмета исследования в одно и то же время и существенно расширяют наше знание и представление о сталинской эпохе, и ставят новые вопросы и тем самым открывают путь к новым способам анализа исторических источников и новым способам концептуализации истории.
1.6. Историография кампаний
Историография кампаний иная. С одной стороны, мало найдется книг по сталинской эпохе, в которых не упоминалось бы о кампаниях. Это и не удивительно, поскольку кампании еще со времен военного коммунизма стали неотъемлемым элементом управления Советского Союза. «“То на скаку, то на боку”, “то лежим, то бежим”, “сначала спячка, потом горячка” – эти поговорки, являясь символом кампанейского подхода, отражают важный стереотип мышления и поведения как политиков самого высокого уровня, так и обычных “маленьких” людей»[108], – пишет С. Ульянова, один из историков, посвятивших свою работу кампаниям. Однако чаще всего кампании в работах появляются либо как фон (предпосылка) описываемых событий, либо как последствие воздействия каких-то факторов. Примером первого типа может стать сборник «Подвластная наука? Наука и советская власть», где даже названия отдельных статей звучат в этом ключе: «“Великий перелом” и геохимия»[109], «Физики и борьба с космополитизмом»[110]. Логика такого рода исследований проста: «в это время шла очередная кампания, она затронула героев так-то и так-то». Примеры второго типа тоже можно встретить в изобилии. Вот один из них: «…к концу 40-х годов престарелый и страдавший от многочисленных хронических недугов диктатор окончательно превратился в патологического юдофоба, которому повсюду стали мерещиться происки, заговоры сионистов. Особенно наглядно это проявилось в “деле врачей” 1953-го года»[111]. И дело не в том, что авторы неправы: разумеется, проходящие кампании оказывали самое непосредственное воздействие на людей, социальные группы и институты, а отдельные кампании действительно могли быть спровоцированы личными пристрастиями вождя, злободневными проблемами или идеологическими установками. Дело в том, что при таком подходе ускользает одна важная деталь: сами по себе политические кампании являются целостным историческим явлением, определенным шаблоном политики, который, однажды возникнув, повторяется раз за разом, причем не только в рамках сталинской эпохи, но и много позже нее. Именно это и делает изучение кампаний актуальным для исторической науки.