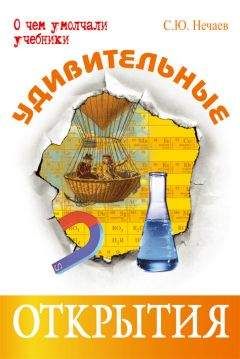Вот в этом и заключается наша совместная цель: разбирая истории открытий, причисленных к случайным, посмотреть, в какой мере они относятся к таковым, не стали ли они жертвой легенд, подобно открытиям Ньютона и Архимеда.
В наших странствиях по разным странам, разным эпохам, разным лабораториям в поисках обстоятельств, при которых были сделаны выдающиеся открытия, нам нередко придется оставлять на время учебники и трактаты и брать в руки описание быта и нравов того времени, чтобы во всех деталях представлять себе жизнь и творчество ученых, чтобы иметь возможность, если надо, максимально приблизиться к рассматриваемому событию, чтобы потом максимально отдалиться от него и увидеть тогда его во всем объеме. Конечно, описание события не может создать полностью «эффект присутствия»; и, кроме фантазии автора, понадобятся еще и читательская фантазия, чтобы заставить ожить ушедших в прошлое людей, чтобы увидеть, словно на экране, давно случившиеся события. Нам предстоит нелегкая работа, и в качестве утешения могу рассказать напоследок историю одного любопытного спора, происшедшего триста пятьдесят лет назад и до сих пор не потерявшего интерес.
Дело было в начале XVII века. В Риме ценители искусств затеяли дискуссию: что ценнее — скульптура или живопись? Сторонники скульптуры, их было большинство, утверждали, что скульптура важнее, поскольку она имеет, в отличие от картин, рельеф. И поскольку она объемна, а картины плоские, то, естественно, она ближе к изображаемому объекту. А раз ближе к изображаемому объекту, значит, создает большую иллюзию действительности и, следовательно, ценнее.
В этот спор был вовлечен и выдающийся флорентийский живописец Лодовико Чиголи, который в то время как раз находился в Риме. Но Чиголи не был силен в схоластических спорах. Поэтому он написал письмо своему близкому другу Галилео Галилею с просьбой снабдить его аргументами против искушенных в словопрениях противников.
Каждый, конечно, знает, кто такой Галилей. Один из величайших ученых мира, впервые наблюдавший с помощью изготовленной им зрительной трубы небесные светила, открывший закон инерции, закон падения тел, закон колебания маятника, пятна на Солнце, горы на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, звездное строение Млечного Пути. Так вот к нему и обратился за помощью Чиголи. В этом не было ничего удивительного — их связывала давняя и тесная дружба. Лодовико недавно доказал свою преданность Галилео: на последней своей работе — фреске церкви Санта-Мария Маджоре — он изобразил Луну, причем так, как она была видна в телескоп Галилея. Это был смелый шаг, потому что открытие Галилея, как и его телескоп, были предметом многочисленных насмешек, а в 1633 году даже осуждены римским католическим судом.
А вот теперь Галилео представлялась возможность показать свое расположение к другу. И он пишет ему длинное письмо, которое оканчивает и отправляет в Рим 26 июня 1612 года. В этом письме Галилей показал себя с новой для нас стороны. Мы знали его как ученого, а он оказался еще и тонким знатоком искусства, прекрасно понимающим его специфику и со свойственной ученому логикой ее обосновывающим. Это видно, в частности, из аргументов, которых так ждет Чиголи. Вот что пишет Галилео: «Произведения скульптуры имеют рельеф лишь постольку, поскольку они оттенены… а если мы покроем тенью все освещенные части скульптурной фигуры с помощью краски настолько, что ее тон станет полностью одинаковым, то фигура будет казаться полностью лишенной рельефа». Заметьте, это не просто аргумент, это приглашение к эксперименту: кто не верит, может попробовать. Мне неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь из участников спора предложенным доказательством, но я видел результаты опыта, поставленного по схеме Галилея лет двадцать назад. Были взяты два красноватых резиновых шара, их сбоку осветили, чтобы подчеркнуть рельеф, и сфотографировали. А потом один из шаров был закрашен темной краской в том месте, где на него падал свет, и оба шара снова сфотографировали. И что же? На первой фотографии шары выглядели как шары, на второй один из них, закрашенный, походил на совершенно плоский диск. Таким образом, аргумент Галилея был абсолютно обоснованным.
Правда, пишет далее ученый, это не значит, что скульптура не имеет отличий от живописи; имеет, конечно: у нее три измерения — высота, ширина и глубина, тогда как у картины только два, она плоская. Но это обстоятельство. продолжает Галилей, вовсе не говорит в пользу скульптуры как вида искусства. Напротив, неожиданно утверждает он, это значительно снижает ее достоинства. И поясняет почему: чем дальше отстоят средства воспроизведения от воспроизводимого предмета, тем более заслуживает восхищения воспроизведение.
Причем это относится не только к созданию произведения, но и к его прочтению. Понять картину сложнее, чем скульптуру; песня со словами нагляднее, чем музыка без слов.
Поэтому, когда нам придется на страницах этой книги из отдельных фрагментов, из обрывков дошедших сведений восстанавливать в своем воображении картины прошлого, мы можем подбадривать себя мыслью о том, что мы участвуем в творчестве, и чем труднее нам будет поначалу, тем большую ценность будет иметь наше творчество.
А теперь — в путь. Через границы веков и государств, по страницам исторических фолиантов и научных трактатов — в поисках истоков легенд, которые до сих пор будоражат воображение, тайно зовут отдаться воле случая, чтобы, найдя их, обнаружить там истину.
Через сто лет после того как в Англии были опубликованы «Начала» Ньютона, на другом конце Европы, в Италии, в городе Болонье, знаменитом своим университетом, у тамошнего профессора анатомии простудилась жена. Эти события, разделенные целым веком, безусловно разного масштаба: о первом сразу же узнала вся Европа, а о втором… впрочем, о втором Европа тоже узнала, только через год.
Нас, правда, больше интересует не жена профессора, хотя легенда и приписывает ей известную роль в происшедших событиях и даже неким итальянским поэтом был сочинен в ее честь сонет, в котором эта роль всячески подчеркивалась. Нас интересует сам профессор, в то время тридцатилетний медик, уже восемь лет занимающий кафедру анатомии в родном университете. Может заинтересовать нас и город, в котором он родился, учился и работал и который сами итальянцы называли «Bologna La Grassa» и «Bologna La Dotta» — «жирная Болонья» и «ученая Болонья». Сочетание эпитетов странное, но что поделаешь, Болонья удачно расположена в сельскохозяйственном отношении, ее окружали тучнейшие житницы и виноградники, путешественники единодушно отмечали изобилие и дешевизну, но вместе с тем Болонья располагала старинным университетом, каким могли похвастать немногие города Европы. В XVII веке университет породил множество различного рода академий, так что в то время, когда двадцатидвухлетний Луиджи Гальвани принял кафедру анатомии, ученые играли в общественной жизни города ведущую роль.
Вероятно, поэтому и потому еще, что в те годы Болонья была одним из художественных центров Италии, чья слава уступала только Риму и могла сравниться с Флоренцией и Венецией, Болонья считалась во владениях римского папы вторым городом после Рима, а ее кардинал был после папы вторым лицом в Ватикане.
Вот в этой обстановке, с одной стороны благополучия и благодушия, а с другой — уважения к учености и к ученым, и протекала жизнь Луиджи Гальвани. После окончания университета он, помимо чтения лекций по анатомии, занимался исследованиями, относящимися к области сравнительной анатомии; судя по публикациям в журналах, он исследовал строение и природу костей, почки и уши птиц. Но особой известности ему эти труды не принесли, и знаем мы о них потому лишь, что в 1771 году он, по совету своего учителя Беккариа, занялся изучением электрических явлений, а через девятнадцать лет после этого у него простудилась жена, и ей прописали… Но, впрочем, не будем забегать вперед, остановимся пока на первом событии из той цепи, которая привела к появлению термина «гальваническое электричество».
В том, что Гальвани занялся изучением электричества, не было ничего особенно выдающегося — в то время кто только этим не занимался. То было время первых волнующих открытий в области электричества. В 1663 году была построена первая электрическая машина. В 1746 году была изобретена знаменитая лейденская банка. Открытие голландского профессора математики из Лейдена Питера Мушенброка, сделанное, кстати, случайно, взволновало всех — и ученых и не ученых. Все, кто мог, стали делать опыты с лейденской банкой. Во Франции опыт был повторен даже в Версале, в королевском дворце, в присутствии его величества. Сто восемьдесят гвардейцев в парадных мундирах, взявшись за руки, образовали цепь; первый держал в свободной руке банку, последний извлекал из нее искру, а удар чувствовали все. «Было курьезно видеть, — писал очевидец этого великосветского опыта, — разнообразие жестов и слышать вскрики, исторгаемые неожиданностью у большей части получающих удар». Но, кроме возможности наблюдать курьезы, открытие лейденской банки дало науке и нечто посерьезнее — способность накапливать электричество и экспериментировать с ним.