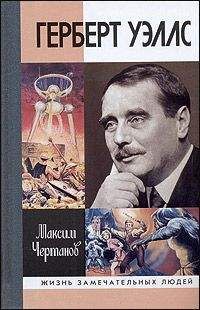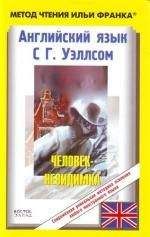Эпизод с проституткой нам важен — не для того, чтобы добавить «клубнички» в биографию героя, а чтобы чуть лучше понять его характер. По словам Эйч Джи, у него с этой женщиной, чьего имени он не удосужился спросить, сразу сложились дружеские, прямо-таки высокодуховные отношения, и она горевала о том, что они никогда больше не увидятся; добросовестный рассказчик сам отметил, что это горе было высказано тотчас после того, как он заплатил ей больше, чем полагалось, но не усомнился в его искренности. С той же наивностью Эйч Джи признался, что проститутки всегда были к нему душевно расположены, ибо он вел себя с ними цивилизованно. Цивилизованно вести себя с проститутками означало для него совсем не то, что для Куприна — выслушивать их истории, писать о них, быть их заступником и другом, — а всего лишь хорошо заплатить. Если бы кто-то сказал ему, что поступить совсем благородно означало бы дать деньги, но, раз уж он так хорошо относится к этим девушкам, отказаться от их услуг, он бы этого не понял. И вовсе не потому, что был буржуа, полагавшим, что каждый подарок нужно отрабатывать, просто он был уверен, что девушки были счастливы его близостью, потому что он им очень понравился. Они же сами так говорили!
Чикаго, Бостон, Вашингтон Уэллса разочаровали. Они показались ему недостаточно «американскими». (Сельской, «одноэтажной» Америки он не видел вовсе.) По-настоящему американским был только Нью-Йорк. Он отвечал идее великанства, вокруг него должен был строиться новый объединенный мир. Уэллс выразил эту веру в заключительных главах «Будущего Америки». Все недостатки — это недостатки роста, вроде рахита, они будут преодолены; Америка «с ее традициями свободы, с духом инициативы в людях, будет лидером прогресса». Так что приняли его книгу в Штатах очень хорошо, несмотря на всю высказанную критику. Английской публике «Будущее Америки» также понравилось, рецензии были восторженные. Уильям Джеймс, тоже посетивший США и написавший об этом книгу, сравнивая работу Уэллса со своей, признал, что ему и в голову не приходило задуматься о перспективах развития этой страны и что Уэллс открыл ему глаза на множество вещей. Черчилль, Уэббы, Элизабет Хили — все эти очень разные люди назвали «Будущее Америки» прекрасной вещью. Да и трудно было бы принять книгу плохо. Она полна внимания к мелочам и пристального детского любопытства; на такие книги не обижаются те, о ком они писаны, а стороннего наблюдателя они захватывают как увлекательный роман. Вот только коварные и некомпетентные издатели, как всегда, дурно рекламировали ее и скверно продавали.
Домой Уэллс вернулся 27 мая, привез множество игрушек сыновьям. Был в превосходном настроении, редактировал «Будущее Америки», с нетерпением ожидал выхода британского издания своего нового романа «В дни кометы» (In the Days of the Comet; в США роман публиковался в журнале «Космополитен»). Были с Кэтрин на обеде у Уэббов, потом Уэббы приезжали к ним. В июне Уэллс получил письмо от лейбориста Кейра Харди: «Понимая всю серьезность и искренность Ваших намерений реформировать Фабианское общество, я все же считаю, что это приведет лишь к Вашему разочарованию и трениям внутри общества. Почему бы Вам не предоставить Фабианскому обществу идти своим путем и не принять участие в той части политического движения, которую представляет Независимая лейбористская партия?» Харди предлагал Уэллсу баллотироваться от лейбористов в парламент; Уэллс вежливо отказался. Почему? Наверняка причин было много. Он терпеть не мог пролетариата (а тогдашняя Лейбористская партия была партией рабочих); он не потерял надежды возглавить Фабианское общество; его, знавшего свою слабость в публичных выступлениях, могла испугать сама процедура участия в выборах.
14 июля в «Дейли кроникл» был опубликован один из самых знаменитых рассказов Уэллса — «Дверь в стене» (The Door in the Walt)[39]. Некто Уоллес (Уэллс любил давать героям фамилии, похожие на свою) в детстве увидел зеленую дверь в белой стене, прошел сквозь нее и оказался в волшебном саду: «Там были две большие пантеры… Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. <…> И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка».
Волшебный сад для Уоллеса — то же, что Олдингтонский холм для Скелмерсдейла: приснившаяся страна, где царит красота, «бесцельная и непоследовательная», страна, в которой он должен был жить, если бы по ошибке не оказался в нашем мире, страна, не имеющая ничего общего с тем идейно выдержанным идеалом, который Эйч Джи описывал в состоянии бодрствования. (Пантеры здесь неспроста: любовь Эйч Джи к кошачьим доходила почти до мании, большая кошка символизировала для него все самое прекрасное.) Но он побоялся остаться в саду, убежал, как и Скелмерсдейл. Потом тосковал, но всякий раз, когда ему случайно попадалась Дверь (ее невозможно отыскать сознательно), был занят делами и проходил мимо. Стал взрослым, сделал карьеру политика, еще несколько раз видел Дверь: «Я давал клятву, что, если когда-ни-будь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил». И наконец тоска по волшебному саду завладела им так сильно, что он рассказал свою историю другу: «Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло… <…> Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура!»
На следующий день его мертвое тело обнаружили в канаве. Он искал свою Дверь и, быть может, нашел ее. Его друг сказал: «Я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело — как бы это сказать? — какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир». Уэллсом это чувство действительно владело, он многократно опишет его. Но поступать он будет как Уоллес: всякий раз, когда Дверь будет ему попадаться, предпочтет повседневную суету, успех, карьеру, дела. Иногда он даже не заметит, что перед ним промелькнула Дверь.
Тем же летом у Макмиллана вышел роман «В дни кометы». Завязка основана на реальных космических событиях: в 1907-м ожидалось появление близ Земли кометы Энке, а в 1910-м — кометы Галлея; интерес публики к кометам был огромен, одни готовились к катастрофе, другие выпускали конфеты и духи с изображением хвостатой гостьи. Но в данном случае астрономия не интересовала Уэллса. Он начал писать роман сразу после похорон матери; в значительной степени то был роман о ней. Воспитывавшая сына (героя романа Лид-форда) в религиозном духе, она «наделяла Бога своей трепетной, лучистой добротой и очищала его от всех качеств, какие приписывали ему богословы; она сама была — если бы только я мог тогда понять это — лучшим примером всего того, чему хотела научить меня. <…> Тогдашний общественный строй сделал ее рабой самых жалких условностей. Он согнул ее, состарил, чуть ли не лишил зрения в пятьдесят пять лет; глядя на меня сквозь свои дешевые очки, она видела меня лишь в тумане; он приучил ее вечно тревожиться, и что он сделал с ее руками — бедными, милыми руками!».
Мир в романе нехорош: богачи эгоистичны, священники лживы, бедняки тупы и жестоки, написано об этом умно, едко, горячо, убедительно, но мы это уже слышали. Отметить стоит разве что разговоры Лидфорда с Богом, из них позднее вырастет религиозная философия Уэллса: «Почему ты дал мне гордость, которую я не могу насытить, и желания, которые оборачиваются против меня и разрывают мне душу? Уж не шутишь ли ты со своими гостями здесь, на земле? Я — даже я! — неспособен на такие злые шутки. Почему бы тебе не поучиться у меня хоть какой-либо порядочности и милосердию? Почему бы тебе не исправить то, что ты натворил? Ведь я никогда не мучил изо дня в день какого-нибудь несчастного червяка, не заставлял его копошиться в грязи, которая ему отвратительна, не заставлял умирать от голода, не терзал его и не издевался над ним. Зачем же тебе так поступать с людьми?»