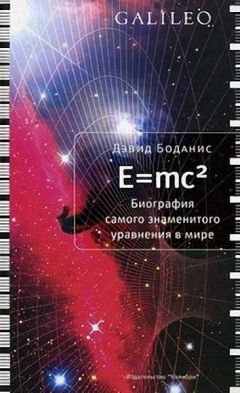Глава 3. =
Большинство основных типографских символов, какие мы используем, утвердились под конец Средневековья. В Библии четырнадцатого столетия нередко можно было увидеть текст, походивший на телеграмму:
В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ ЗЕМЛЯ ЖЕ БЫЛА БЕЗВИДНА И ПУСТА И ТЬМА НАД БЕЗДНОЮ
В разное время происходили изменения, обращавшие большинство букв из прописных в строчные:
В начале сотворил Бог небо и землю земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною
Другое изменение сводилось к тому, что в тексте появлялись кружочки, обозначавшие главные места, на которых можно было переводить дыхание:
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною.
Использовались также и закорючки помельче — для обозначения таких же мест, но уже не главных:
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
Когда по конец 1400-х появилось книгопечатание, основные символы довольно быстро заняли свои места. Тексты начали наполняться странными символами? и совсем новыми значками!. Все это немного походило на то, как стандарт Windows вытеснял в персональных компьютерах прочие операционные системы.
Утверждение символов менее значимых потребовало несколько большего времени. Сейчас мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся, — настолько, что, к примеру, смаргиваем на каждой точке, какая стоит в конце предложения. (Присмотритесь к любому читающему что-то человеку и вы сами увидите это.) А между тем, это реакция целиком и полностью заученная.
(א)
Более тысячи лет в одном из главных населенных пунктов мира в качестве знака сложения использовался символ, показывавший приближающегося к вам человека (который тем самым «добавлялся» к вам), а в качестве значка вычитания —. Эти египетские символы вполне могли получить широкое распространение и утвердиться, как то случилось с арабскими. Те же финикийские символы стали основой еврейских א и ב — «алеф» и «бет», — как и греческих α и β, — «альфа» и «бета», образовавших основу нашего «алфавита».
Во всю середину 1500-х у предприимчивых людей еще сохранялась возможность установить собственные значки для оставшихся неоформленными символов менее значительных. В 1453-м Роберт Рекорде, ретивый автор английских учебников, попытался ввести новый значок «+», приобретший некоторую популярность на Континенте. Книга, которую он по этому поводу написал, не принесла ему состояния, и в следующем десятилетии он предпринял новую попытку, на сей раз с символом, имевшем некоторые корни в старых текстах по логике и способном, как он был уверен, взять верх над другими. Рекорде попробовал даже — в лучшем стиле беззастенчивой рекламы — указать на его экономическую целесообразность: «…и дабы избегнуть утомительного повторения одних и тех же словес: это равно тому, я устанавливаю две параллели, или линии равной длинны, а именно ========, поелику никои две вещи не могут быть более уравнены…».
Судя по всему, и это новшество Рекорде особенно не обогатило, поелику ему пришлось яро соперничать со столь же вразумительным // и даже с причудливым символом «[;», каковой отстаивали могучие немецкие печатни. Полный набор предлагавшихся возможностей, если представить их внедренными в наше уравнение, выглядит так:
e || mc2
e->mc2
e.æqus. mc2
e][mc2
И наконец, мое любимое
е============ mc2
Победа Рекорде оставалась отнюдь не явственной до наступивших поколение спустя времен Шекспира. Только тогда педанты и школьные учителя начали все чаще использовать знак равенства для обозначения того, что разумеется само собой, однако еще оставались мыслители, у которых имелись идеи получше. Если я говорю 15+20=35, это не так уж и интересно. А вот представьте, что я говорю вам:
(сместитесь на 15 градусов на запад)
+
(на 20 градусов на юг)
=
(и вы найдете пассаты, которые за 35 дней донесут вас через Атлантику до нового континента)
А теперь я сообщу вам некую новость. Хорошее уравнение это не просто вычислительная формула. И не весы, показывающие, что два элемента, которые вы полагали почти равными, и вправду равны. Нет, ученые начали использовать знак = как некий телескоп, позволяющий усматривать новые идеи, устройство, привлекающее внимание к новым, неожиданным областям. Дело попросту в том, что уравнения писались символами, а не словами.
Именно так Эйнштейн и использовал «=» в его написанном в 1905 году уравнении. Викторианцы полагали, что им удалось обнаружить все возможные источники энергии: химическую, тепловую, магнитную и так далее. А в 1905-м Эйнштейн сказал: Нет, существует еще одно место, в которое вы не заглядывали, там ее куда больше. Его уравнение было подобно телескопу, наставленному на это укромное место, находившееся отнюдь не в далеком космосе. Оно находилось рядышком — под самым носом всех его профессоров.
Эйнштейн обнаружил источник энергии там, где никто его попросту не искал. Источник, скрытый в самом веществе.
В течение долгого времени с концепцией массы происходило примерно то же, что и с концепцией энергии до того, как Фарадей и иные ученые девятнадцатого столетия завершили свою работу. Людей окружало вещество самое разное — лед, камень, ржавое железо, — однако оставалось неясным, как они связаны друг с другом, если связаны вообще.
В наличие некой великой связи между ними ученым помогало верить то, что в 1600-е годы Исаак Ньютон сумел доказать: все планеты, луны и кометы, какие мы наблюдаем, можно описать как детали некоей созданной Богом огромной машины. Единственная проблема состояла в том, что это величественное видение представлялось далеко отстоящим от заурядного, пыльного и плотного вещества, с каким нам приходится иметь дело здесь, на Земле.
Для того, чтобы установить применимость начертанной Ньютоном великой картины к нашей грешной Земле, — то есть показать, что различные типы вещества, нас окружающего, воистину взаимосвязаны и весьма основательно, потребовался человек, обладавший приверженностью к дотошной точности, готовый тратить время на промеры даже крошечных изменений весов и размеров. К тому же, он должен был обладать романтичностью, достаточной для того, чтобы вдохновиться грандиозной картиной Ньютона, — иначе с чего бы он стал изыскивать лишь смутно подозреваемые связи между любыми видами материи?
Вот это странное сочетание — откупщик с душой, способной воспарять в небеса, — можно считать точным портретом Антуана Лорана Лавуазье. Именно он, и никто иной, был человеком, впервые показавшим, что все по-видимому различные куски дерева, камня и железа, какие только есть на земле — все обладатели «массы» — являются, на самом деле, частями единого целого.
Присущий ему романтизм Лавуазье продемонстрировал в 1771 году, когда спас тринадцатилетнюю дочь своего старого друга Жака Польза от вынужденного брака с неотесанным, угрюмым, но при этом устрашающе богатым человеком. Причина, по которой он знал Польза достаточно хорошо для того, чтобы прийти на помощь его дочери, Мари Анне, состояла в том, что Польза был его начальником. А спас он Мари Анну способом довольно простым — взял да и женился на ней сам.
Брак их оказался очень удачным, несмотря на разницу в возрасте и на то, что вскоре после того, как красивый двадцативосьмилетний Лавуазье спас Мари Анну, ему пришлось с головой уйти в ошеломительно скучную финансовую работу, которую он исполнял для Польза в организации, именовавшейся «Генеральным откупом».
Откупаться там ни от кого особенно не приходилось, организация эта занималась, почти монопольно, сбором налогов для правительства Людовика XVI. Суммы, которые откупщики собирали сверх требуемых правительством, они могли оставлять себе. Занятие это было исключительно прибыльным, но так же и исключительно безнравственным, в течение многих лет привлекавшим стариков, достаточно богатых, чтобы купить соответственную должность, но не способных к сколько-нибудь дотошному ведению учета или наведению организационного порядка. Работа Лавуазье как раз и состояла в том, чтобы поддерживать в рабочем состоянии эту огромную систему, в которой перемешивались, словно мутовкой, налоги.
Этим он и занимался в течение примерно двадцати следующих лет, понуро сгибаясь над письменным столом все долгие рабочие часы по шесть дней в неделю. Только в остававшееся свободным время — два часа поутру, а затем весь выходной, — и мог он предаваться научным занятиям. И этот единственный день недели он называл «jour de bonheur» — «днем счастья».
Не всякий, возможно, сможет понять, в чем это «счастье» состояло. Опыты, которые ставил Лавуазье, нередко напоминали обычную его бухгалтерскую работу, разве что времени отнимали гораздо больше. И тем не менее, настал момент, когда Антуан с неразумным восторгом, которым славятся юные любовники, сказал своей молодой жене, что она может помочь ему в постановке опыта, по-настоящему важного. Он собирался последить за медленно сгорающим или просто ржавеющим куском металла и выяснить, станет ли тот в итоге весить меньше или же больше.