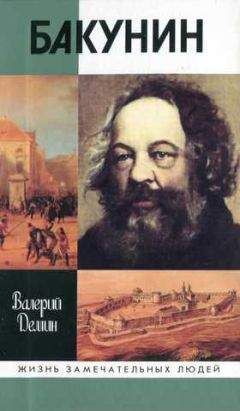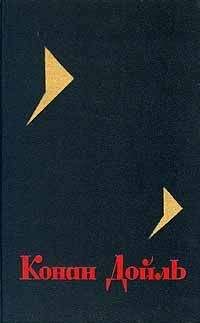Популярный романист того времени, не забытый и поныне Иван Иванович Лажечников (1790–1869), запечатлел жизнь семьи Бакуниных в Прямухине в своих заметках. Во время Отечественной войны Лажечников дошел до Парижа и написал блестящие мемуары. После войны вышел в отставку и со временем обосновался в Твери, где занимал должность директора гимназии. Здесь же расцвело и его литературное дарование. Лажечников дружил с Александром Михайловичем, неоднократно приезжал погостить в его имение, а в тверской гимназии учились четверо сыновей Бакунина (все, кроме Мишеля, получившего исключительно домашнее воспитание). К тому времени Бакунины обзавелись домом и в Твери, его, впрочем, они не слишком жаловали. О Прямухине и его обитателях Лажечников писал:
«В одном из уездов Тверской губернии есть уголок, на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях.
Да и семейство, живущее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Как тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы ровно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству.
Душою дома был глава его, патриарх округа. Как хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец, с не покидающей его улыбкой, с белыми падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, невидящими, как у Гомера, но с душою глубоко зрячего, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали года, свыкнувшись только с его добротой и умом. Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в деревне, под сень посаженных его собственною рукою кедров.
Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное, природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее. Откуда, с каких концов России ни стекались к нему посетители!»[4]
* * *
Всеобщий любимец Мишель рано проявил незаурядные интеллектуальные способности, глубоко разбирался в искусстве, особенно в музыке, прекрасно играл на скрипке и почти что профессионально рисовал (сохранилось два его замечательных автопортрета, выполненных в юношеском возрасте[5]). В нем так же рано проявились задатки лидера, и со временем его авторитет среди братьев и сестер стал почти непререкаем.
Брожение в дворянских кругах, в конечном счете вылившееся в восстание 14 декабря 1825 года, не обошло стороной и гостеприимное родовое гнездо Бакуниных. Пятеро братьев Муравьевых (трое из них участвовали в декабристском движении) приходились кузенами Варваре Александровне и, следовательно, двоюродными дядьями ее детям. Все они неоднократно приезжали в Прямухино. В 1816 году братья Муравьевы посадили перед домом Бакуниных дубок, который вырос и простоял там почти сто лет, получив прозвание «дуба декабристов». Родственные отношения связывали Варвару Александровну Бакунину и с другой ветвью муравьевского рода: казненный в числе пяти декабристов Сергей Иванович Муравьев-Апостол (как и его братья Матвей и Ипполит) приходился ей троюродным братом, но в Прямухине никогда не бывал.
В феврале 1816 года полковник Генерального штаба Александр Николаевич Муравьев (1792–1863) стал одним из основателей «Союза спасения», преобразованного в 1818 году в «Союз благоденствия». В деятельности обоих «союзов» принимал участие и другой брат — Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866), впрочем, быстро отошедший от тайного общества. В ходе следственного дознания он был оправдан по всем статьям и впоследствии, уже в 1860-е годы, «прославился» жестоким подавлением очередного польского восстания, за что получил приставку к своей фамилии — Виленский, а в народе был прозван Вешателем. Он и сам без тени смущения говорил: «Я не принадлежу к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают».
Лидер декабристского движения Никита Михайлович Муравьев (1775–1843) в сентябре 1817 года также посещал Прямухино и оставил письменные свидетельства о своей встрече с кузиной Варей и ее мужем. В семье Бакуниных жило предание, что Александр Михайлович вместе с братьями Муравьевыми обсуждал документы тайного общества, демократические перспективы развития России и размежевания с заговорщицким, по их мнению, крылом Павла Пестеля. В этом был, в частности, убежден и его сын Михаил, ставший спустя двадцать лет ультрарадикальным революционером. В своих незавершенных воспоминаниях он высказался на сей счет более чем определенно. Судя по всему, именно в таком виде легенда передавалась из уст в уста в семействе Бакуниных:
«<…> Среди просвещенных людей, живших в то время в России, он (отец. — В. Д.) пользовался такой известностью, что его деревенский дом был всегда полон гостей. С 1817 по 1825 г. он состоял членом тайного “Северного общества”, того самого, которое в декабре 1825 г. сделало несчастную попытку поднять военное восстание в С.-Петербурге. Несколько раз ему предлагали быть председателем этого общества. Но он был большим скептиком, а с течением времени усвоил слишком большую осторожность, чтобы принять это предложение. Это-то избавило его от трагической, но славной участи многих его друзей и родственников, из которых иные были повешены в Петербурге в 1826 г., а другие были приговорены к каторжным работам или ссылке в Сибирь на поселение».
Документы же и письма, относившиеся к тому периоду, были уничтожены после подавления восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Считалось, что, повзрослев, Михаил стал очень похож на своих родичей из рода Муравьевых. Так в один голос утверждали те, кто знал их лично. Александр Иванович Герцен (1812–1870) в письме к известному французскому историку и литератору Жюлю Мишле писал, что на своих дядьев Муравьевых Бакунин «сильно походил своей высокой сутуловатой фигурой, светло-голубыми глазами, широким и квадратным лбом и даже довольно большим ртом». В этом же письме приводит и другое сравнение: «<…> Чтобы дать вам хоть какое-нибудь представление о внешности Бакунина, рекомендую вам старые портреты Спинозы, которые можно найти в нескольких немецких изданиях его произведений; между обоими этими лицами большое сходство». смущение, но даже не удивляли. Сам же я привык лгать, потому что искусная ложь в нашем юнкерском обществе не только не считалась пороком, но единогласно одобрялась. Во мне не было прежде сознательного религиозного чувства, но было религиозное чувство, тесно связанное с прямухинской жизнью, а в артиллерийском училище оно совершенно во мне исчезло, потому что в мое время во всех моих товарищах было самое холодное равнодушие ко всему святому, великому и благородному. Во мне заснула всякая духовность: я лгал, выпрашивал у Княжевича денег под благовидным выдуманным предлогом. <…> В это время один из юнкеров заставил меня сделать два векселя, я сам сделал несколько долгов. В продолжение трех лет моего юнкерства я почти ничего не делал и работал только в последние месяцы года, чтобы выдержать экзамен».
А вот и более широкие обобщения, сделанные спустя сорок с лишним лет: «<…> Огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была и прежде — грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной, — ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батарейного командира, правильное чуть ли не узаконенное воровство — составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять все человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа».
Писатель Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) в одном из своих эссе проводит на первый взгляд парадоксальную параллель между Бакуниным и Лермонтовым. В самом деле, они были одногодками, учились фактически в одно и то же время в Петербурге, обоим было уготовано военное поприще, оба с ненавистью относились к военной муштре и казарменным порядкам. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) поступил в 1832 году в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где провел, по его собственным словам, «два страшных года». Он окончил школу в 1834 году в звании корнета. Следовательно, Бакунин и Лермонтов, вполне возможно, встречались либо сталкивались на маневрах, парадах, балах или светских приемах. Но не в этом главное. Амфитеатров сравнивает судьбу обоих: