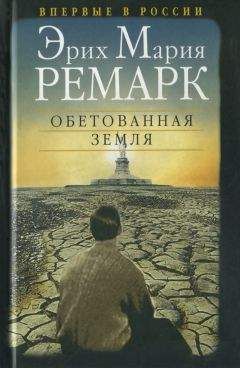Она шла рядом со мной своей летящей походкой манекенщицы, желанная, но до ужаса чужая и недоступная. Казалось, она не чувствует этого спертого запаха захолустья, в котором я почти задыхался, — этой смеси простодушия, затхлого уюта и бездумного послушания, которые в любую минуту были готовы превратиться в свою противоположность.
— Как тут спокойно, — сказала Мария.
Знал я это спокойствие. В концлагерях возле бараков смерти цвели клумбы с геранями, а по воскресеньям играл лагерный оркестр; а в это же самое время заключенных били плетьми, а то и медленно затягивали петлю на их шее. Не зря ведь про Гиммлера рассказывали, как нежно он любил своих ангорских кроликов. Ни одного не дал убить. Зато еврейских детей — да. Тысячи.
Я чувствовал во всем теле легкую дрожь. Я внезапно понял, что не могу себе представить, как когда-нибудь снова вернусь в Германию. Я знал, ничего в жизни я не желаю столь же страстно, как этого возвращения, но не мог вырваться из замкнутого круга своих мыслей. Тут что-то совсем другое. Я мечтал вернуться на родину, чтобы отыскать убийц моего отца, а не для того, чтобы снова там жить. И сейчас, в это мгновение, я почувствовал, что никогда бы не смог там остаться. Меня бы всю жизнь преследовала эта двойная оптика: страна безобидных бюргеров и одновременно страна послушных убийц. Я чувствовал, что уже никогда не смогу их разделить. Слишком часто они были единым целым. Да и не хочу я ничего разделять. Передо мной была отвесная черная стена, которую я не мог преодолеть. Передо мной убийства, которые исковеркали всю мою жизнь. При малейшей мысли о них я прихожу в возбуждение и много дней не могу успокоиться. И не успокоюсь до тех пор, пока не расквитаюсь за эти убийства. Расквитаюсь сам, мне не нужно их искупление. Убийца должен поплатиться своей жизнью.
Я почти забыл о Марии. Внезапно я снова увидел ее. Она стояла перед обувным магазином в стойке охотника и придирчиво изучала витрину, вся чуть подавшись вперед и настолько углубившись в созерцание туфель, что, по-моему, она обо мне тоже забыла. Теплая волна нежности к ней вдруг поднялась в моей душе. Мы ничего друг о друге не знали именно потому, что мы такие разные. Это делало ее в моих глазах особенно дорогой и неприкосновенной и даровало ту особую интимную радость, которая никогда не выродится в пошлую фамильярность. Это придавало уверенности и ей и мне: мы понимали, что наши жизни могли идти рядом, не переплетаясь друг с другом. Возможно, где-то на этом пути найдется место и для кристаллика счастья — но без предательства и без прикосновения к прошлому.
— Подыскали что-нибудь? — спросил я.
Она подняла глаза:
— Слишком все тяжелое. Для меня чересчур солидно. А вы?
— Ничего, — ответил я. — Ровным счетом ничего.
Она внимательно посмотрела на меня:
— Не стоит возвращаться в прошлое, да?
— Туда вернуться невозможно, — ответил я.
Мария усмехнулась:
— Это дает человеку некоторую свободу, верно? Как тем птицам из легенды, у которых есть только крылья, а лапок нет.
Я кивнул:
— Зачем вы меня сюда привезли?
— Случайно вышло, — беспечно бросила она. — Вы же хотели прогуляться?
Может, и случайно, подумал я. Только я не верил в такие случайности. Само собой напрашивалось желание сравнить мирный уют этой цитадели нацизма с разрушениями Флоренции. В каждом из нас живут всякого рода враждебные настроения, которые могут внезапно вырваться наружу. Поэтому я ничего ей не ответил. Любой мой ответ был бы только ненужным вызовом и ударом в пустоту.
Мы подошли к кафе-кондитерской, которое в этот час было забито до отказа. Из зала доносилась музыка. Немецкие народные песни. Я уставился в открытую дверь. «Каждый из этих людей, с горящими глазами поглощающий сейчас взбитые сливки и франкфуртский пирог, может превратиться в оборотня и по приказу исполнить любую экзекуцию», — думал я. Тот факт, что эти люди живут в Америке, ничего не меняет в лучшую сторону. Скорее наоборот, они становились еще более яростными патриотами.
— Американцы очень великодушны, — сказал я. — Они никого не сажают.
— Сажают. Японцев в Калифорнии, — возразила Мария. — И немцам-эмигрантам там тоже после восьми вечера полагается сидеть дома и никогда не удаляться от поселений больше чем на восемь километров. Я была там. — Она рассмеялась. — Сажают, как всегда, не тех, кого надо.
— В большинстве случаев — да.
Из большой пивной по соседству послышалась духовая музыка. Немецкие марши. В окнах витрины висели кровяные колбасы. Каждое мгновение я ждал, что вот-вот услышу и «Хорст Вессель» [35].
— По-моему, с меня хватит, — сказал я.
— С меня тоже, — откликнулась Мария. — В этой обуви, похоже, только маршировать хорошо, для танцев она не годится.
— Тогда пойдем назад?
— Не пойдем, а поедем. Назад, в Америку, — сказала Мария.
Мы сидели в одном из ресторанов в Центральном парке. Перед глазами расстилались луга, от воды веял холодный ветер, откуда-то издалека доносились удары весел. Наступил вечер, и меж деревьев уже висели голубые тени ночи. Вокруг было тихо.
— Какая ты загорелая, — сказал я Марии.
— Ты это уже говорил в машине.
— Так то было сто лет назад. За это время я успел побывать в Германии и вернуться обратно. Какая ты загорелая! И как блестят твои волосы в этом освещении! Это же итальянский свет. Вечерний свет Фьезоле![36]
— Ты там бывал?
— Нет, только по соседству. Во Флоренции, в тюрьме. Но свет-то я все-таки видел.
— За что ты сидел в тюрьме?
— Документов не было. Но меня быстро выпустили и сразу же велели покинуть страну. А свет я знаю скорее по итальянским картинам. Он полон тайны, этот свет, возникающий из сияющих, пестрых теней. Вот как сейчас из твоих волос и твоего лица.
— Зато когда я несчастлива, волосы у меня не блестят и секутся, — сказала Мария. — И кожа становится плохой, когда я одна. Я не могу долго быть одна. Когда я одна — я ничто. Просто набор скверных качеств.
Официант подал нам бутылку чилийского белого вина. У меня было чувство человека, только что избежавшего большой опасности. Всколыхнувшийся страх, всколыхнувшаяся ненависть, всколыхнувшееся отчаяние снова остались где-то позади, там, куда я все время стремился их загнать, пока они были способны меня разрушить. В Йорквилле они прикоснулись ко мне кровавой лапой воспоминаний, но сейчас мне казалось, что в последний миг я все-таки успел сбежать. Теперь я чувствовал в себе глубокий покой, какого давно не испытывал, и не было ничего важнее для меня в этот час, чем птицы, прыгающие по нашему столу, склевывая крошки, чем желтое вино в бокалах и лицо, мерцающее передо мной в сумерках. Я глубоко вздохнул.
— Мне удалось сбежать, — сказал я.
— Будь здоров! — сказала Мария. — Мне тоже.
Я не стал спрашивать, от чего сбежала она. Наверняка не от того же, от чего я.
— В Париже, в «Гран Гиньоне», я однажды видел одноактную пьеску, — сказал я. — Двое сидят в гондоле воздушного аэростата. Он с подзорной трубой, все время смотрит вниз. Вдруг раздается страшный грохот. Тогда он опускает трубу и говорит своей спутнице: «Она только что взорвалась. Земля. Что будем делать?»
— Хорошенькое начало, — заметила Мария. — И чем же все кончилось?
— Как всегда в «Гран Гиньоне». Полной катастрофой. Но в нашем случае это необязательно.
Мария усмехнулась:
— Двое на воздушном шаре. И ни земли, ни родины. И что тут может случиться с теми, кто ненавидит одиночество, а счастье считает всего лишь зеркалом? Бесконечным зеркалом, которое снова и снова отражает только самое себя. Будем, Людвиг! Как хорошо быть свободным, когда ты не один. Или это противоречие?
— Нет. Осторожная разновидность счастья.
— Звучит не очень красиво, да?
— Не очень, — согласился я. — Но этого и не бывает никогда.
Она посмотрела на меня:
— Как бы ты хотел жить, когда все это кончится и все пути будут снова открыты?
Я надолго задумался.
— Не знаю, — вымолвил я наконец. — Я действительно не знаю.
— Где вы пропадаете? — набросился на меня Реджинальд Блэк.
Я показал ему на часы. Было десять минут десятого.
— Адвокаты открывают свои конторы только в девять, — сказал я. — Я должен был заплатить долг.
— Долги оплачиваются чеком. Это гораздо удобнее.
— Я пока что не обзавелся банковским счетом, — возразил я. — Только долгами.
Блэк меня поразил. Это был совсем не тот холеный светский господин с небрежными манерами, каким я его знал раньше. Сегодня это был очень беспокойный человек, хотя и старающийся не показывать свою нервозность. Даже лицо у него изменилось: вдруг куда-то исчезла припухлая мягкость, и бородка казалась более гладкой и прямой, уже не ассирийской, а скорее левантийской. Ну просто салонный тигр, выходящий на большую дорогу.