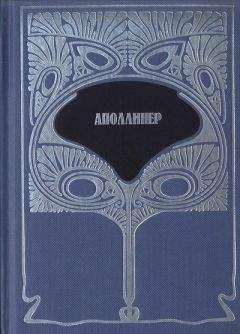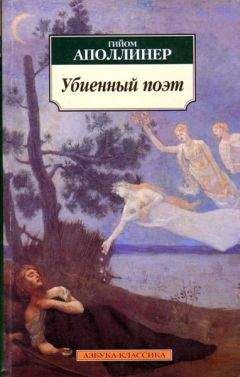То была Пиза. Я был в полном восторге и поднял Мальдино, чтобы он тоже увидел башню, которая вот-вот упадет. Когда поезд тронулся, я взял отца за руку и спросил;
— А где мама?
— Она осталась дома, — ответил отец, — и ты ей напишешь, как только научишься писать, а когда вырастешь, снова увидишься с нею.
— А сегодня вечером не увижусь?
— Нет, — грустно ответил отец, — сегодня вечером не увидишься.
Я расплакался, стал его колотить, закричал:
— Ты все врешь!
Но он утихомирил меня, сказав:
— Джованнино, не капризничай. Вечером мы приедем в Турин, и я свожу тебя посмотреть Джандовию. Он в точности похож на твою любимую куклу, но только гораздо больше.
Я с нежностью глянул на Мальдино и при мысли, что увижу его выросшим, успокоился.
В Турин мы приехали поздно вечером. На ночлег остановились в гостинице. Я валился с ног от усталости, но все равно, когда отец раздевал меня, спросил:
— А где Джандовия{199}?
— Завтра вечером увидишь, — отвечал отец, готовя мне постель, — а сегодня он устал не меньше твоего.
Впервые я заснул, не прочитав на ночь молитву. На следующий день отец повел меня смотреть Джандовию. Я ни разу еще не был в театре. Во время представления я был на верху блаженства и не упустил ни единого жеста марионеток в человеческий рост, двигавшихся по сцене, но ничегошеньки не понял в интриге пьесы, действие которой, насколько я помню, частично проходило на Востоке. Когда представление кончилось, я не хотел в это поверить. Отец сказал мне:
— Все, марионетки больше не вернутся.
— А куда они ушли? — поинтересовался я, убедившись, что Мальдино по-прежнему со мной.
Но отец ничего не ответил…
А потом я уехал с дядей в Париж. И больше никогда не видел своих родителей: через несколько лет после моего отъезда они умерли.
* * *
Завершив свой рассказ, Джованни Морони надолго задумался. Я неоднократно пытался расспрашивать его о воспоминаниях и впечатлениях последующих, уже более сознательных лет детства. Но мне так ничего и не удалось вытянуть из него. Впрочем, думаю, ему просто нечего было рассказать…
ФАВОРИТКА
© Перевод Л. Цывьян
Произошло это в Босолей, неподалеку от монакской границы, в степной местности Карнье, которую называют еще Тонкином и где живут практически одни пьемонтцы.
Незримый палач обагрил кровью послеполуденную пору. Двое мужчин, обливаясь потом и тяжело дыша, тащили носилки. Иногда они поднимали глаза к отрубленной голове солнца и, щуря глаза, кляли его.
Двое мужчин и носилки ползли тяжело, как скорпион, спасающийся от опасности, а когда остановились возле низкой, отвратительного вида хижины и тот, кто шел вторым, наклонился, показалось, будто скорпион сейчас совершит самоубийство, уколов себя жалом. Передний носильщик откинул холстину и открыл покрытое ранами лицо мертвеца.
* * *
Из распахнутой двери дома, полного людей, доносился монотонный голос, выкрикивающий выходящие номера лото.
На пороге сидела на корточках девочка лет тринадцати-четырнадцати, в лохмотьях, с коротко стриженными волосами, в которых виднелись проплешины, и, напевая, без конца повторяла одну и ту же фразу — фразу, что может прийти в голову только голодному: «La polenta molla, la polenta molla…»[30]
Носильщики постучали в дверь и единственное окошко халупы, крича:
— Чикина! Эй, Чикина!
Тотчас из дома, где наугад вытаскивали бочонки лото, вышел растрепанного вида рабочий и, оттолкнув напевавшую девочку, осведомился:
— Чего надо?
Носильщики, вытирая пот, объяснили:
— Скала, которую он подрубал, сорвалась; он упал на дорогу с высоты ста метров и весь изодрался о кактусы.
* * *
Дверь хижины открылась, и появилась аккуратно одетая Чикина, то есть Франсуаза, в накрахмаленном розовом переднике с оборками.
Это была еще красивая, хорошо сложенная брюнетка; она улыбалась деланой, жеманной улыбкой, и лишь ее кожа, сухая и тусклая, как кукурузные стебли, свидетельствовала, что ей уже скоро перевалит на пятый десяток. На лице и шее у нее пролегли тени, оставленные возрастом. А в глазах, пока еще влажных и бархатистых, как шкура вынырнувшей из воды выдры, время от времени вспыхивали холодными синевато-стальными проблесками знобкие судороги сожалений и рухнувших надежд.
У этой женщины из народа бурные страсти не претворялись ни в какие переживания. Она догадывалась об этом и пыталась глазами, губами, драматическими жестами изобразить неистовую силу своих чувств, которых явно не испытывала.
Манеры ее были благородны, но наигранны.
Она прошептала: «Он мертв!» — и с громким плачем спрятала лицо в передник, однако же все в ее скорби выглядело притворным. Почти мгновенно она отпустила передник и обратилась к мужчине, стоявшему возле дома, где играли в лотто:
— Костанцинг, сегодня третье! Он погиб третьего! Ставь на тройку, Костанцинг, ставь на тройку!
* * *
Вокруг носилок стал собираться народ. Тут были мальчишки, говорившие нарочито грубыми голосами. Были девочки, державшие на руках детей. Подошли несколько рабочих и принялись играть в морру — тут же, рядом с мертвым.
У носилок остановился хорошо одетый господин.
Чикина бросила на него жеманный взгляд и захныкала:
— Он был такой добрый, такой славный! Я закажу ему самый красивый венок!
* * *
Носильщики снова подняли труп и понесли его в дом Чикины. Смерть вошла туда равнодушно, как восточный владыка. Носилки поставили посреди единственной комнаты; в ней пахло пряными травами, кислым тестом, но все перебивала вонь сушеной трески, которая вымачивалась в обливной глиняной миске на полу. В глубине комнаты стояла кровать; на стене над нею, сплетясь вокруг пальмовой ветки, висели четки, обрамлявшие литографию, на которой был изображен Виктор-Эммануил между Гарибальди и Кавуром{201}.
* * *
Прилично одетый господин вошел с носильщиками, сострадательным взором он обвел жалкую обстановку в доме покойника. Чикина опять бросила на него кокетливый взгляд.
— Мушю, — обратилась она к нему, коверкая так слово «месье», — он умер! Умер! Ах, не везет мне… Но я вижу, такой обходительный человек, как вы, не станет принимать меня за простую, ничтожную бабенку; бедность, мушю, принуждает меня вести жалкую жизнь среди жалких людей. Но кто знает… Может, мы выиграем денег. Он погиб третьего, и Костанцинг поставил на этот номер в лото. Но когда-то мне повезло… Если ты красива… А в Пинероло не было красивее меня!
Она разразилась рыданиями и принялась рассказывать про Пиньероль, перемежая всхлипываниями отрывистые, блистательные фразы, из которых, как живой, вставал il re galantuomo[31], Виктор Эммануил, итальянское олицетворение короля Сердцееда{202}, с его победительными усищами, простонародными вкусами и возлюбленными на один день.
— Витторио Эммануэле! Да, мушю… Во время путешествия в Пинероло… Он был первым, клянусь вам… Я получила четыре marenghi, да, мушю, четыре золотых монеты… Он был так прекрасен, и он был король…
Четыре marenghi…
Она плакала, эта королевская возлюбленная, не обращая внимания на то, что прожитые годы сделали ее лицо мятым, и не противясь этому. Память призвала все ее годы, и другие, давние, что миновали задолго до ее появления на свет, и они, состарив ее еще сильней, воскресили воспоминания о галантных похождениях узников, которые когда-то содержались в Пиньероле. Лозен, старинный фривольный призрак{203}, возник, чтобы угодничать перед этой женщиной, и вместе с суперинтендантом Фуке{204} и Железной Маской составил великолепную, небывалую свиту погибшего рабочего, которому случай назначил в жены возлюбленную короля.
* * *
Но вернулся Костанцинг, проигравшийся в лото, и прогнал эти тени. Он вошел, сжимая кулаки.
— Эй вы, запомните: Чикина — моя! И не воображайте, что раз вы вырядились по-господски, то можете лезть в дела, которые вас не касаются. Валите-ка отсюда! Чао!
Он еще несколько раз повторил это грубое пьемонтское прощание: «Чао! Чао!» Но Чикина уперла руки в бока:
— Иди спать, Костанцинг, иди спать! Ты ведь не ревнуешь к нему? — И она указала на литографию, на которой был изображен Виктор Эммануил. — И к нему? — Она показала на лежащего посреди комнаты мертвеца. — Тогда тебе нечего ревновать и к мушю, который выразил мне участие. Я делаю что хочу, заруби это себе на носу, парень, что хочу! У меня был король, когда я захотела, и каменщики, когда мне так нравилось, и господа, когда мне это доставляло удовольствие…