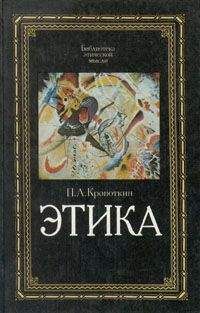* См.: Паульсен Ф. Основы этики. Русский перевод под редакцией В. Н. Ивановского, М., Изд. Прокоповича, 1907. С. 199–200.
Все это еще более подтверждает выше приведенное объяснение происхождения его этики. В распущенности обществ в конце XVIII века он видел вредное влияние англо-шотландских философов и французских энциклопедистов. Ему захотелось восстановить уважение к долгу, развивавшемуся в человечестве на религиозной основе, и он попытался это сделать в своей этике.
Едва ли нужно прибавлять, насколько вследствие этого нравственная философия Канта под предлогом общественной пользы способствовала подавлению в Германии философии развития личности, об этом уже достаточно сказано было большинством серьезных критиков его философии — Вундтом, Паульсеном, Йодлем и многими другими **.
** Об отношении этики Канта, с одной стороны, к христианству, а с другой — к эгоистическому утилитаризму см. особенно у Вундта (Этика. Т. 2. Этические системы).
Бессмертной заслугой Канта, писал Гёте, было то, что он вывел нас из той мягкотелости, в которой мы погрязли. И действительно, его этика, несомненно, внесла более строгое ригористическое отношение к нравственности взамен некоторой распущенности, если не навеянной философией XVIII века, но отчасти оправдывавшейся ею. Но для дальнейшего развития этики и уяснения ее смысла учение Канта ничего не дало. Напротив того, дав некоторое удовлетворение философским исканиям правды, учение Канта надолго оставило развитие этики в Германии. Напрасно Шиллер (благодаря своему знакомству с Древней Грецией) стремился направить этическую мысль к признанию того, что человек становится действительно нравственным не тогда, когда в нем борются веления долга с побуждением чувства, а тогда, когда нравственный склад стал его второй натурой. Напрасно старался он также показать, как истинно художественное развитие (конечно, не то, что ныне называется «эстетизмом») содействует развитию личности, как созерцание художественной красоты и художественное творчество помогают человеку подняться до того, что он понемногу заглушает в себе голоса животного инстинкта и тем открывает путь велению разума и любви к человечеству. Германские философы, писавшие о нравственности после Канта, внося каждый свои личные особенности, продолжали, однако, как их учитель, занимать промежуточное положение между богословским пониманием нравственности и философским. Новых путей они не прокладывали, но они вдохновляли мыслящих людей к служению обществу, не выходя из тесных рамок тогдашнего полуфеодального строя. В то же время, когда в философии нравственного вырастала школа утилитаристов, руководимых Бентамом и Миллем и возникла школа позитивизма Огюста Конта, приведшая философию к естественнонаучной этике Дарвина и Спенсера, германская этика продолжала питаться крохами кантианства или блуждать в туманах метафизики, а нередко и возвращаться более или менее откровенно к этике церкви.
Нужно, однако, сказать, что если германская философия первой половины XIX века, подобно германскому обществу того времени, не смела выбиться из оков феодального строя, она все-таки содействовала необходимому возрождению Германии, вдохновляя молодое поколение к более высокому, более идеальному служению обществу. В этом отношении Фихте, Шеллинг и Гегель заняли почетное место в истории философии, и среди них Фихте заслуживает особого внимания.
Излагать его учение я не стану, так как для этого потребовалось бы говорить таким метафизическим языком, который только затемняет мысли, вместо того чтобы выяснять их. А потому тех, кто пожелает ознакомиться с учением Фихте, я отсылаю к превосходному изложению этого учения Йодлем в его «Истории этики», где он называет учение Фихте «этикой творческой гениальности». Здесь же я упомяну только об одном выводе из этого учения, который показывает, как Фихте близко подходил к некоторым выводам рациональной, естественнонаучной этики.
Философия Древней Греции стремилась стать руководителем в жизни. К той же цели стремилась и философия нравственности Фихте, причем он предъявлял очень высокие требования к самой нравственности, т. е. к чистоте ее мотивов, отвергая в них всякую эгоистичную цель и требуя полной сознательной ясности в воле человека и самых широких и высоких целей, которые он определял как господство разума, через свободу человека и уничтожение в человеке пассивности.
Другими словами, можно было бы сказать, что нравственное, по мнению Фихте, состоит в торжестве самой сути человека, самой основы его мышления над тем, что человек пассивно воспринимает из окружающей среды.
При этом Фихте заключал, что совесть никогда не должна руководствоваться авторитетом. Тот, кто действует, опираясь на авторитет, поступает положительно бессовестно, так что легко понять, какое возвышающее впечатление производили такие речи среди молодежи в Германии в 20-х и 30-х годах XIX века.
Фихте возвращался, таким образом, к мысли, высказанной уже в Древней Греции, что в основе нравственных суждений лежит прирожденное свойство человеческого разума и что для того, чтобы быть нравственным, человеку нет надобности ни в религиозном внушении свыше, ни в страхе наказания в этой или будущей жизни, что не помешало Фихте в конце концов все-таки прийти к заключению, что без божественного откровения ни одна философия обойтись не может.
Краузе шел еще дальше. Для него философия и богословие сливались в одно. Баадер строит свою философию на догматах католической церкви, и самое его изложение было проникнуто духом католической церкви.
Шеллинг (Фридрих) (1775–1854), друг Баадера, прямо приходит к теизму. Его идеал — Платон, и его Бог — человеческий Бог, откровение которого должно заменить всякую философию, что, впрочем, не помешало немецким богословам жестоко напасть на философа, хотя он делал им такую уступку. Они поняли, конечно, что Бог Шеллинга — не христианский Бог, а скорее Бог природы с ее борьбой между добром и злом. Притом они видели, какое возвышающее влияние оказывала философия Шеллинга на молодежь, влияние, которого не могли достигнуть их церковные учения *.
* В русской жизни мы знаем, например, из переписки Бакуниных [129], какое возвышающее влияние философия Шеллинга оказывала одно время на молодежь, группировавшуюся около Станкевича и Михаила Бакунина. Но вследствие мистического элемента философия Шеллинга, несмотря на смутно выраженные в ней верные догадки (напр., о добре и зле), конечно, быстро побледнела под влиянием научного мышления.
В философии (Георга) Гегеля (1770–1831) прежде всего следует отметить то, что он не посвящает этике особого сочинения, а рассматривает вопросы о нравственном в «Философии права»**. Законодательство и его основы и учение о нравственном сливаются у него в одно — черта чрезвычайно любопытная для характеристики германского ума в XIX веке.
** Основы философии права (Grundlinien der Philosophie des Rechts. 1821, а также «Феноменология духа», «Энциклопедия философских наук», «О научных разработках естественного права», 1802–1803 (т. 1 его сочинений) [130].
Разбирая нравственный закон Канта, Гегель прежде всего указал на то, что нельзя считать оправданием нравственного правила то, что оно может быть признано желательным как общий закон, потому что для всякого поступка можно найти какое-нибудь общее основание и даже возвести его в обязанность. И действительно, мы все знаем, что не только дикари возводят в обязанность такие поступки, против которых возмущается наша совесть (убийство детей, родовая месть), но и в образованных обществах возведены во всеобщий закон поступки, которые многие из нас находят безусловно возмутительными (смертная казнь, эксплуатация труда, классовые неравенства и т. д.).
С каким уважением ни относиться к Канту, но те, кто задумывался над основами нравственных понятий, чувствуют, что в основе этих понятий кроется какое-то общее правило, и недаром мыслители со времен Древней Греции подыскивают подходящее выражение в виде короткой, общеприемлемой формулы тому сочетанию суждений и чувства (или, вернее, суждению, одобряемому чувством), которое мы находим в наших нравственных понятиях.
Гегель тоже чувствовал это и искал для «моральности» (Moralitat) опоры в естественно сложившихся в жизни установлениях семьи, общества и особенно государства. Благодаря этим трем влияниям, говорил он, человек настолько сродняется с нравственным, что оно перестает быть для него внешним принуждением; он видит в нем проявление своей собственной свободной воли. Сложившиеся таким путем нравственные суждения, конечно, не неизменны. Сперва они воплощались в семье, а затем в государстве, но и здесь они видоизменялись; причем в жизни и развитии человечества постоянно вырабатывались высшие формы, высшее понимание нравственного и все ярче выступали права личности на самостоятельное развитие. Но нужно помнить, что первобытная нравственность пастуха имеет ту же ценность, что и нравственность высокоразвитого человека. Она изменяется в каждом отдельном государстве и в совокупности государств.