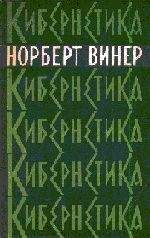Существует один вопрос, относящийся собственно к этой главе, хотя он никоим образом не является ее кульминационным пунктом. Это вопрос о том, можно ли построить машину, играющую в шахматы, и являются ли способности такого рода существенным отличием человеческого разума от машины. Заметим, что мы не поднимаем вопроса о том, можно ли построить шахматную машину, которая будет вести оптимальную игру в смысле фон Неймана. Даже наилучший человеческий мозг не может приблизиться к решению этой задачи. С другой стороны, не вызывает сомнения возможность построения машины, которая будет играть в шахматы в том смысле, что она будет следовать правилам игры безотносительно к ценности ходов. Построить такую машину по существу не труднее, чем построить систему блокировки сигналов для железнодорожного сигнального поста. Реальная задача является промежуточной — построить машину, которая будет служить интересным противником для игрока какого-нибудь одного из многих уровней, по которым располагаются шахматисты. [c.248]
Я думаю, что можно построить сравнительно грубое, но не совсем тривиальное устройство такого назначения. Машина должна перебирать — по возможности с большой скоростью — все свои допустимые ходы и все допустимые ответы противника на два или три хода вперед. Каждой последовательности ходов она должна приписывать определенную условную оценку. Мат противнику получает на каждой стадии наивысшую оценку, получение мата — самую низшую; потеря фигур, взятие фигур противника, шахование и другие характерные ситуации должны получить оценки, не слишком отличающиеся от тех, какие дали бы им хорошие шахматисты. Первый из всей последовательности ходов должен получать оценку, сходную с той, которая была бы ему дана по теории фон Неймана. Когда у машины есть один ход и у противника один ход, машина оценивает каждый вариант своего хода по минимальной оценке ситуации, получаемой после перебора всех возможных ответов противника. Когда машина и противник имеют по два хода, машина оценивает каждый вариант своего первого хода по минимальной оценке относительно вариантов первого хода противника, оцениваемых, в свою очередь, по максимальной оценке следующих за ними вариантов второго хода машины, а эта максимальная оценка подсчитывается для вариантов второго хода машины в предположении, что у противника есть лишь один ход и у машины лишь один. Этот процесс можно распространить на тот случай, когда каждый игрок делает три хода, и т. д. Затем машина выбирает любой из вариантов своего хода, дающих максимальную оценку для n ходов вперед, где n имеет значение, установленное конструктором машины. Этот ход она выбирает как окончательный.
Такая машина будет играть в шахматы не только правильно, но даже и не столь плохо, чтобы это было смешно. Если на какой-либо стадии игры будет возможен мат в два или три хода, то машина сделает этот мат; а если можно избежать мата в два или три хода, то машина избежит его. Она, вероятно, будет выигрывать у бестолкового и невнимательного шахматиста и почти наверное будет проигрывать внимательному и достаточно умелому игроку. Другими словами, машина, [c.249] вполне возможно, будет играть не хуже, чем огромное большинство человечества. Это не значит, что она дойдет до такой же степени совершенства, как мошенническая машина Мельцеля[178], но тем не менее она может достичь вполне удовлетворительного уровня. [c.250]
Часть II.
Дополнительные главы
1961 г.
Глава IX. Об обучающихся и самовоспроизводящихся машинах
К числу явлений, которые мы считаем характерными для живых систем, относится способность обучаться и способность воспроизводить самих себя. Эти свойства, хотя и кажутся различными, тесно связаны между собой. Обучающееся животное — это животное, которое может преобразиться под действием своего прошлого окружения в другое существо и тем самым приспособиться к окружению в течение своей индивидуальной жизни. Размножающееся животное — это животное, которое может создавать других животных по своему подобию, по крайней мере приближенно, хотя подобие и не настолько полно, чтобы они не могли изменяться со временем. Если эти изменения сами окажутся наследуемыми, появляется сырой материал, над которым может работать естественный отбор. Если наследование касается поведения животного, то среди различных распространяющихся типов поведения некоторые окажутся благоприятными для продолжения существования расы и сохранятся, а другие окажутся вредными и будут устранены. Таким образом, происходит своеобразное расовое, или филогенетическое, обучение, в отличие от онтогенетического обучения индивидуума. И онтогенетическое, и филогенетическое обучение суть методы приспособления животного к окружающей среде.
Обе формы обучения, и в особенности филогенетическое, свойственны не только всем животным, но и растениям — и по существу всем организмам, которые в каком-либо смысле можно считать живыми. Однако значение этих двух форм обучения у различных видов живых существ может весьма различаться. У человека — и в меньшей степени у других млекопитающих — онтогенетическое обучение и индивидуальная приспособляемость достигли высшей точки. По существу, [c.253] можно сказать, что весьма большая часть филогенетического обучения человека была посвящена созданию возможности хорошего онтогенетического обучения.
Джулиан Хаксли в своем фундаментальном исследовании об уме птиц[179] показал, что у птиц способность к онтогенетическому обучению невелика. То же справедливо для насекомых, и в обоих случаях это может объясняться огромными требованиями, предъявляемыми к индивидууму полетом, и вытекающим отсюда поглощением способностей нервной системы, которые в противном случае могли бы быть применены к онтогенетическому обучению. Как ни сложны формы поведения птиц: полет, ухаживание, забота о птенцах, постройка гнезд, они выполняются правильно с первого раза, не требуя особого научения от матери.
Вполне уместно посвятить одну из глав этой книги двум взаимосвязанным проблемам: могут ли созданные человеком машины обучаться и могут ли они воспроизводить самих себя? Мы попытаемся показать, что они действительно могут и то и другое, и обрисуем технику обеих активностей.
Более простым из этих двух процессов является обучение, и здесь техническое развитие пошло дальше. Я буду говорить, в частности, об обучении играющих машин, которое дает им возможность совершенствовать свою стратегию и тактику на основании опыта.
Существует признанная теория игр — теория фон Неймана[180]. Она посвящена способу игры, который лучше рассматривать не с начала партии, а с конца. На последнем ходе партии игрок стремится сделать по возможности выигрышный ход, а если нельзя, то, по крайней мере, ход, приводящий к ничьей. На предыдущем этапе его противник стремится сделать ход, препятствующий другому игроку сделать выигрышный или ничейный ход. Если же он сам может сделать выигрышный ход, он сделает таковой, и это будет не предпоследний, а последний этап игры. Другой игрок на ходе, предшествующем этому ходу, будет пытаться действовать [c.254] так, чтобы все усилия его противника не помещали ему закончить партию выигрышным ходом, и т. д.
Существуют игры, как, например, в крестики и нулики, где вся стратегия известна и такую политику можно проводить с самого начала. Если это возможно, то это явно наилучший способ игры. Но во многих играх, как шахматы и шашки, наше знание недостаточно для полного осуществления подобной стратегии, и тогда мы можем лишь приблизиться к ней. Приближенная теория в стиле фон Неймана, как правило, учит игрока действовать с крайней осторожностью, исходя из допущения, что его противник — совершенный мастер.
Однако такая установка не всегда оправданна. На войне, являющейся родом игры, она, как правило, будет вести к нерешительным действиям, которые во многих случаях будут немногим лучше поражения. Приведу два исторических примера. Когда Наполеон сражался с австрийцами в Италии, его успех был обусловлен отчасти тем, что ему было известно ограниченное и традиционное военное мышление австрийцев. С полным основанием он мог полагать, что они не способны использовать новые, требующие решительных действий методы войны, введенные солдатами французской революции. Когда затем Нельсон сражался с объединенными флотами континентальной Европы, у него было то преимущество, что он командовал флотом, господствовавшим на морях в течение многих лет и выработавшим методы мышления, недоступные, как ему было хорошо известно, для противников. Если бы адмирал вместо того, чтобы полностью использовать это преимущество, действовал осторожно, исходя из допущения, что противник имеет такой же военно-морской опыт, он возможно, выиграл бы в конце концов войну, но не смог бы одержать столь быструю и решительную победу и установить непроницаемую морскую блокаду, которая в конечном счете привела к падению Наполеона.