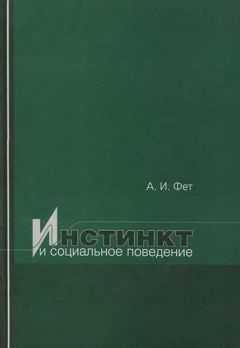С земли повсюду снял воздвигнутые грани,
И в рабстве бывшая досель земля свободна стала.
Это не значит, что долги не могли возникать в дальнейшем, но Солон запретил долговое рабство и выкупил рабов, проданных на чужбину, а «бывших в рабстве на месте» освободил. Этим он, без сомнения, предотвратил гражданскую войну; но он не согласился на передел земли, как требовали бедные. Вместо этого он, по-видимому, восстановил древнее ограничение земельной собственности, какое было, как нам известно, и у римлян. Таким образом, этот «закон о земельном максимуме», вызывающий сомнения у некоторых историков, был не совсем радикальным новшеством; вот что говорит о нем Аристотель: «Что уравнение собственности имеет свое значение в государственном общежитии, это, по-видимому, ясно сознавали и некоторые из древних законодателей. Так, например, Солон установил закон, действующий также и в других государствах, по которому запрещается приобретение земли в каком угодно количестве». Впрочем, Аристотель не сообщает, в чем именно состоит этот закон, а распространяется дальше о пользе умеренности и о воспитании граждан в этом духе. Закон о максимуме вряд ли имел практическое применение. Но отмена долгового рабства привела к увеличению числа средних земельных собственников, ставших впоследствии опорой афинской демократии.
Солон реформировал также политическую систему Афин. Прежние цензовые категории, определявшие права и обязанности граждан, основывались на происхождении; Солон сохранил это деление, но сделал его имущественным. Тем самым частная собственность была официально признана новой основой государственного строя. Богатые пользовались преимуществом при занятии должностей; но и бедные играли некоторую роль, поскольку Солон предоставил им бóльшие права в народном собрании и суде. Это было умеренное олигархическое правление, какое предпочитал Аристотель. Иначе думали афинские ремесленники, мало выигравшие от реформы Солона: их значение в государстве становилось все больше, между тем как цензовое деление было построено на продукции земледелия, измеряемой количеством зерна и оливок. Таким образом, реформа Солона оказалась лишь началом революционного процесса, как это неизменно случалось после всех реформ.
Солон не хотел власти для себя, но вскоре нашелся не столь совестливый человек, Писистрат, взявшийся провести дальнейшие реформы насильственно; он захватил единоличную власть и стал, по выражению греков, «тираном». Убедившись, что тирания имеет нежелательные стороны, афиняне вернулись к представительному правлению. Как мы видим, они воспринимали конфликт в своем государстве как борьбу бедных и богатых, то есть – в нашей терминологии – как классовую борьбу. Они понимали, что надо как-то разрешить «социальный вопрос», и хотели сделать это мирными средствами, «парламентским путем». Правящая верхушка, состоявшая обычно из богатых, откупалась от бедных, устраивая для них общественные работы: таким образом – хотя и не только с этой целью – был построен Парфенон. Но бедные в конце концов добились равноправия всех граждан – «изономии»: на это Афинам понадобилось полтораста лет.
Военные поражения погубили афинскую демократию. В древности она была, конечно, необычным и «преждевременным» явлением. Рабство делало ее неспособной к развитию, а уровень общественного сознания не мог преодолеть это препятствие. Она достигла высшего развития при Перикле, которого избирали стратегом с 444 до 430 года.
В 431 году вождь афинского демоса произнес знаменитую речь на похоронах воинов, павших в Пелопоннесской войне. Эта речь, рассказанная Фукидидом, изображает идеал демократии – подлинное завещание Древнего мира Новому миру.
«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служили образцом для некоторых, чем подражали другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши представляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другими не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или ином деле; равным образом, скромность знания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше всего из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время, в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи не писаными, влекут общепризнанный позор. Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов, равно как благопристойностью домашней обстановки, повседневное наслаждение которой прогоняет уныние. Сверх того, благодаря обширности нашего города, к нам со всей земли стекается все, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли. В заботах о военном деле мы отличаемся от противников следующим: государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иноземцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город, так как нас нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-нибудь не сокрытое, воспользуется им для себя; мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях. Что касается воспитания, то противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями, мы же ведем непринужденный образ жизни и, тем не менее, с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником. И вот доказательство этому: лакедемоняне идут войною на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли и там, на чужбине, без труда побеждаем большею частью тех, кто защищает свое достояние. Никто из врагов не встречался еще со всеми нашими силами во всей их совокупности, потому что в одно и то же время мы заботимся и о нашем флоте, и на суше высылаем наших граждан на многие предприятия. Когда в стычке с какою-либо частью наших войск враги одерживают победу над нею, они кичатся, будто отразили всех нас, а потерпев поражение, говорят, что побеждены нашими совокупными силами. Хотя мы и охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним, чем из привычки к тяжелым упражнениям, скорее по храбрости, свойственной нашему характеру, нежели предписываемой законами, все же преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими лишениями, а, подвергшись им, оказываемся мужественными не меньше наших противников, проводящих время в постоянных трудах. И по этой и по другим еще причинам государство наше достойно удивления. Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности; мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не для хвастовства на словах, и сознаваться в бедности у нас не постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом. Одним и тем же лицам можно у нас заботиться о своих домашних делах и заниматься делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо понимание дел государственных. Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Мы сами обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить их, не считая речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по нашему мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без предварительного уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное предприятие; у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу, размышление же – нерешительность. Самыми сильными натурами должны, по справедливости, считаться те люди, которые вполне отчетливо знают и ужасы и сладости жизни, и когда это не заставляет их отступать перед опасностями. Равным образом, в отношении человека к человеку мы поступаем противоположно большинству: друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их оказываем. Оказавший услугу – более надежный друг, так как он своим расположением к получившему услугу сохраняет в нем чувство признательности; напротив, человек облагодетельствованный менее чувствителен: он знает, что ему предстоит возвратить услугу, как лежащий на нем долг, а не из чувства благодарности. Мы одни оказываем благодеяния безбоязненно, не столько из расчета на выгоды, сколько из доверия, покоящегося на свободе. Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство – центр просвещения Эллады; каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния. Что все сказанное не громкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина, доказывает самое значение нашего государства, приобретенное нами именно благодаря этим свойствам… Мы нашею отвагою заставили все моря и все земли стать для нас доступными, мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое-то государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными, и каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него».