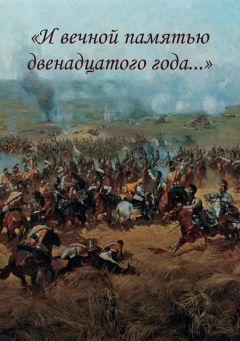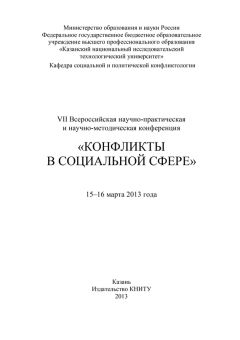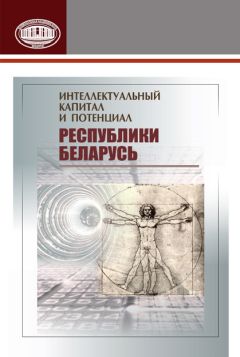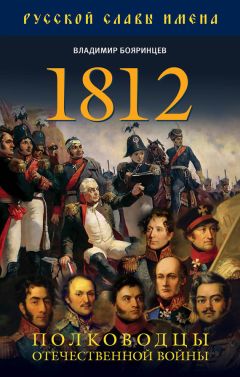Как показывает опыт пушкинской поэзии, биография Наполеона подвергается существенной мифологизации. В аспекте индивидуального и коллективного мифотворчества мы можем говорить о создании особой – наполеоновской – легенды. В создании ее важен отбор и акцентировка определенных биографических и исторических фактов, которые представляются наиболее значимыми и характерологическими именно с позиции мифотворчества. Выделим в хронологическом порядке основные вехи биографии Наполеона как историко-мифологического лица, оказавшиеся особо востребованными русскими поэтами-литераторами.
Во-первых, это принятие знаменитого Гражданского кодекса Наполеона, закрепившего основные достижения буржуазной революции и парадоксально совпавшего («бывают странные сближения») с расстрелом во рву Венсенского замка герцога Энгиенского (21 марта 1804)55.
Во-вторых, происшествие в Яффе во время египетского похода, когда в отступающей после поражения под Сен-Жан-д’Арк армии Наполеона появляются случаи заболевания чумой. По одной версии, Наполеон предложил врачу дать больным солдатам смертельную дозу опиума. По другой – великий полководец, стараясь воодушевить больных солдат, пожимал им в лазарете руки, проявляя тем самым акт героизма и самоотверженности. Показательно, что в стихотворении «Герой» (1830) Пушкин отдает предпочтение именно второй версии, возвышающему душу «обману», противопоставляя его, по собственному признанию, «тьме низких истин», наполняющих историю.
В-третьих, заточение Наполеона на острове Св. Елены, когда гений его «угасает» в одиночестве и страшной тоске от разлуки с сыном. Именно данный сюжет будет положен в основу пушкинской оды «Наполеон» (1821).
Наконец, в-четвертых, историческое событие, относящееся уже к посмертной судьбе Наполеона: речь идет о решении перезахоронить прах великого полководца в Париже накануне двадцатилетия со дня его смерти, в декабре 1840 г. На данное событие находим в русской литературе многочисленные отклики, в том числе и специальные циклы стихов А. С. Хомякова и М. Ю. Лермонтова. Итак, когда речь идет о складывании наполеоновской легенды, то это вполне объяснимо как результат апологии исторического героя, акт его романтизации: герой является в ореоле исключительности, представая трагически страдающим и отверженным, вообще непризнанным или недооцененным обывательской массой, толпой. В таком случае в образе Наполеона как исторического лица акцентируются, как правило, ценностно-позитивные черты.
Совсем иначе обстоит дело с так называемым наполеоническим комплексом. По сути, это все тот же образ Наполеона, его концептуально осмысленная биография, но на этот раз уже пропущенные через призму национального самосознания, отраженные в зеркале этнопоэтики. Напомним, что этнопоэтика (как вполне законная часть исторической поэтики) призвана «изучать национальное своеобразие конкретных литератур» и, в частности, ответить на вопрос, что «делает русскую литературу русской»56. Черты Наполеона-антихриста, воплощение непомерного индивидуализма, беспрецедентной в истории человечества гордыни – вот что прежде всего акцентирует в наполеоническом комплексе русская классическая литература. Пример поистине поучительный и требующий вдумчивого аналитического объяснения!
Пожалуй, впервые национально-ценностная модель, развернутая рефлексия на данную тему появляется во второй главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина:
Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно57.
Наполеонический комплекс как тип мироощущения и жизненного поведения героя представлялся поэту существеннейшей проблемой в понимании современного человека и, может быть, человеческой природы вообще. Постоянные раздумья величайшего русского художника над личностью и судьбой Наполеона отзываются, казалось бы, в самых далеких от этого героя сюжетах58. Более того, вполне возможно, что присущее Пушкину неприятие индивидуалистической философии и пафоса безоглядного самоутверждения личности поддерживается постоянным присутствием в его художественном сознании образа Наполеона, подкрепляется – от противного – примером этого обреченного героя-титана, своеобразного сверхчеловека. Так, к примеру, прослеженная Пушкиным в душе Германна (героя «Пиковой дамы») борьба макро- и микрочеловека, о чем так вдумчиво писал в свое время Н. Я. Берковский59, задает, по сути, центральную нравственно-философскую коллизию всей последующей русской литературы, вплоть до Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
На фоне пушкинских оценок «всего великого в человеке» последователь Н. В. Гоголь предстает как изобразитель «пошлости пошлого человека». В своем антропологическом эксперименте он выступает как первооткрыватель «дифференциальных исчислений» в литературе и на этой почве подвергает серьезной мутации саму идею наполеонической личности, высвечивая в ней нечто фантасмагорическое. Вспомним героя гоголевской поэмы Чичикова, в котором обитатели губернского городка признали «переодетого Наполеона», находя, что «лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона». Слухи о Чичикове приобретают столь фантастический характер, что, по предсказаниям некоторого местного пророка, вырастают в целую апокалипсическую картину: «Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром»60.
Наконец, Ф. М. Достоевский в своем романе «Преступление и наказание» напрямую сближает преступную теорию Раскольникова с именами «законодателей и установителей человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее»61. Вопрос, который встает во всей своей неразрешимости перед Раскольниковым, по существу определяя завязку романного сюжета: «…Что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто- запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша…»62. Глубоко символично, что указанному перечню «сверхчеловеков», замыкающемуся именем Наполеона, противостоит у Достоевского образ Христа, ибо Человекобог принципиально противоположен обожествляющему свою гордыню сверхчеловеку. «Восстановление погибшего человека», по Достоевскому, – это и есть окончательное освобождение от наполеонического комплекса, выход человека на путь христианского смирения и покаянной молитвы.
В контексте нашего разговора примечателен «наполеоновский» цикл А. С. Хомякова, печатающийся в журнале «Москвитянин» (1841, № 1–3) и созданный по поводу торжественного перенесения останков Наполеона с острова Св. Елены в Париж в ноябре 1840 г. («На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября», «Еще о нем»). Наполеон, в оценке Хомякова, – сверхчеловек, в конечном счете – Человекобог. Отметим оценочные характеристики: «Помазанник собственной силы!»; «И в те дни своей гордыни / Он пришел к Москве святой, / Но спалил огонь святыни / Силу гордости земной»; «Перед сном его могилы / Скажет мир, склонясь главой: / Нет могущества, ни силы, / Нет величья под луной!»; «Как будто сложили под вечный покров / Всю силу души, и всю славу веков, / И всю гордыню людскую»63. Путь героя, по Хомякову, – это форма духовно-практического освоения мира, обусловленная не только историко-географическим, но и национально-этническим, более того, этноконфессиональным фактором. В этой связи принципиальное значение получает именно оценочный (этикоэстетический) момент в характеристике героя, ибо качество его подвига во многом зависит от критерия духовно-нравственного целеполагания. Что касается образа Наполеона, то он у Хомякова призван подчеркнуть идею мнимого возрождения, мотив земного и бренного, по словам самого поэта, «могучего праха». Эта идея особенно контрастно проступает на фоне обрисовки других героических личностей в творчестве поэта – национально-патриотических героев, приоткрывающих ценностные контуры авторского идеала, таких как легендарные Вадим и Ермак.
Схожие оценки личности Наполеона находим в стихотворном цикле Ф. И. Тютчева «Наполеон», состоящем из трех частей: «Сын Революции, ты с матерью ужасной…» (своего рода прелюдия), «Два демона ему служили…» (центр композиции), «И ты стоял, – перед тобой Россия!» (закономерный финал). Оценки поэта, строго выдержанные в свете этноконфессионального идеала, поразительным образом совпадают с теми, что мы наблюдали у Хомякова: «Не одолел ее [революции] твой гений самовластный!»; «Он был земной, не божий пламень, / Он гордо плыл – презритель волн, – / Но о подводный веры камень / В щепы разбился утлый челн»64.