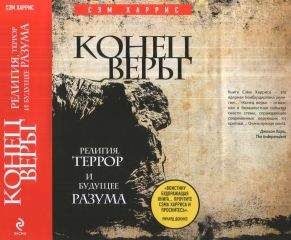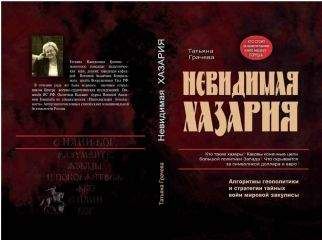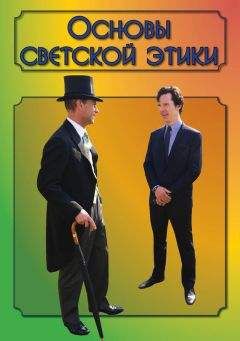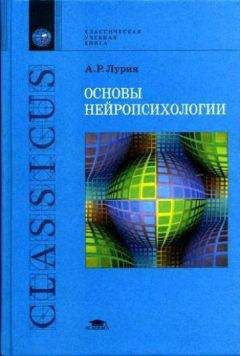262
В философской литературе пацифизм понимают по-разному, здесь я рассматриваю так называемый «абсолютный» пацифизм, то есть убеждение в том, что насилие с нравственной точки зрения неприемлемо ни при каких условиях — включая самозащиту или защиту других. Сторонником такого пацифизма был Ганди, и это единственная форма пацифизма, претендующая на нравственную безупречность.
Хочу ли я сказать, что нравственный долг требует противостоять злу открыто? Да, когда ставки высоки, это именно так. Кто-то может сказать, что в опасных ситуациях — когда открытое противостояние может стоить тебе жизни — лучше прибегнуть к скрытому противостоянию. Те замечательные люди, которые в годы Второй мировой войны укрывали у себя евреев или помогали им перебраться в безопасное место, являют хрестоматийный пример такого поведения. Несомненно, они сделали больше добра своими тайными делами, чем могли бы сделать, если бы в готовности умереть открыто протестовали против нацистов. Но они оказались в таком положении только потому, что лишь немногие люди были готовы сопротивляться нацизму. Если бы было такое сопротивление, самим нацистам пришлось бы прятаться в подвалах и вести там в дневниках разговоры с Богом, который их оставил, — им, а не маленьким невинным девочкам, которых ждал Освенцим. Таким образом, в качестве категорического императива лучшая позиция из возможных — это противостояние злу. В какой форме ему противостоять — это, конечно, открыто для обсуждений. Но просто игнорировать человеческое зло или уступать ему место — это не похоже на достойную этическую ПОЗИЦИЮ.
G. Orwell, Reflections on Gandhi, in The Oxford Book of Essays, ed. J. Gross (Oxford: Oxford Univ. Press, !949), 506.
Я не отрицаю того, что сами мысли эквивалентны определенным состояниям мозга. Но на повседневном уровне существует большая разница между приемом лекарства и принятием новой идеи. И лекарство и идея способны менять наше восприятие — и это один из самых поразительных фактов о человеческом мозге.
Подобных трудов настолько много, что я здесь не привожу из них цитат, но примеры многих таких текстов можно найти в библиографии в конце книги.
Что происходит после смерти и как сознание связано с материальным миром — эти вещи остаются тайной, но мы уже не можем сомневаться в том, что психическая деятельность человека зависит от работы его мозга — причем такая зависимость не соответствует нашим интуитивным представлениям. Рассмотрим одну общую особенность рассказов людей, переживших клиническую смерть: они нередко встречают любимых людей, которые раньше них отправились в мир иной. См.: A. Kellehear, Experiences Near Death: Beyond Medicine and Religion (Oxford: Oxford Univ. Press, 1996). Однако нам известно, что для распознания лиц у человека должна работать кора веретенообразной извилины, особенно правого полушария мозга. Если этот участок мозга поврежден, человек (среди прочего) лишается способности узнавать лица, что называется прозопагнозией. При этом зрение у человека совершенно нормально, он прекрасно различает цвета и формы. Он может распознать практически любой предмет в своем окружении, но не различает лиц даже своих ближайших друзей или членов семьи. Можем ли мы себе представить, что у человека при этом сохраняется неповрежденная душа, которая сохраняет способность узнавать близких? Похоже, это должно выглядеть именно так. Ведь если бы душа не могла сохранить все обычные способности мышления и восприятия, которыми обладает здоровый мозг, небеса бы населяли существа, страдающие от всевозможных неврологических проблем. Но что в таком случае мы можем сказать о состоянии живого человека, страдающего неврологическими нарушениями? Если человек, скажем, страдает афазией, его душа может говорить, читать и мыслить гладко? Если из-за церебральной атаксии у человека нарушена моторика, сохраняется ли у души координация движений руки и глаза? Это как если бы мы верили, что внутри разбитой машины живет новая машина, которая ждет своего момента, чтобы выйти на свободу.
Когда предметом изучения становятся прайминг-эффекты и визуальное маскирование, «слепота к изменению» (D. J. Simons et al., Evidence for Preserved Representations in Change Blindness, Consciousness and Cognition 11, no. 1 [2002]: 78—97), ложная гемиано-пия и нарушение зрительно-пространственного восприятия (G. Rees et al., Neural Correlates of Consciousness in Humans, Nature Reviews Neuroscience 3 [April 2002]: 261—70), «бинокулярное соревнование» и другие нарушения бистабильности восприятия (R. Blake and N. К. Logothetis, Visual Competition, Nature Reviews Neuroscience 3, no. 1 [2002]: 13—21; N. K. Logothetis, Vision: A Window on Consciousness, Scientific American Special Edition 12, no. 1 (2002] 18—25) или «сле-позрение» (L. Weiskrantz, Prime-sight and Blindsight, Consciousness and Cognition 11, no. 4 [2002]: 568—81), значение сознания остается тем же: субъект (будь то человек или обезьяна) просто сообщает нам, словами или через поведение, изменился или нет характер его восприятия.
Математик Алан Тьюринг разработал тест, который показывает, насколько адекватно компьютер может симулировать ум человека (и с тех пор в литературе его стали называть тестом на наличие «сознания» у компьютера). В процессе тестирования человек задает вопросы то другому человеку, то компьютеру, не зная, кто есть кто. Если в конце эксперимента он не может с уверенностью отличить компьютер от человека, значит, компьютер «прошел» тест Тьюринга. — Прим. авт.
Но почему мы не используем общий наркоз, чтобы отключить сознание? Достаточно наполнить сосуды мозга нужной дозой препарата — и сознания нет. Но проблема заключается в том, что мы, на самом деле, не можем с уверенностью сказать, что сознание у человека под наркозом отсутствует. Когда мы смешиваем сознание со способностью дать о нем отчет, мы не можем отличить подлинное прекращение сознания от простой амнезии. Что вы переживали этой ночью? Возможно, вам кажется, что ничего не переживали — вы находились в «бессознательном» состоянии. Но, быть может, вы просто забыли свои сновидения? А когда вы их видели, вы явно находились в сознании. Быть может, сознание продолжает работать во всех фазах сна. Мы не способны с уверенностью отбросить такую возможность, если опираемся только на отчет субъекта.
Далее намеренно оставлены два типа «я»: закавыченное местоимение со строчной буквы и существительное с заглавной как перевод self. — Прим. пер.
Тем не менее ученые и философы отождествляют Я именно с этими вещами. Недавно в Нью-Йоркской академии наук проходила конференция под названием «Человеческое Я: от души к мозгу». На этом мероприятии прозвучало немало интересных слов о работе мозга, но ни один из выступавших не дал четкого определения Я, все отождествляли Я с широкими концепциями — такими, как «психика человека» или «личность». Это как будто не имело никакого отношения к нашему ощущению своего Я.
Некоторые философы, хотя они сами явно не переживали опыта исчезновения границ между субъектом и объектом, отреклись от этой дихотомии концептуально. Так, Сартр считал, что субъект есть не что иное, как один из объектов поля сознания, а потому он «сопоставим с Миром»:
Это не означает, что все младенцы — мистики. Тем не менее чувство своего Я развивается и крепнет почти с момента рождения. См.: К. Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (Boston: Shambhala, 1995), где автор критикует ошибочное отождествление того, что он называет дорациональным, с надрационалъным. Он указывает на то, что у нас нет причин романтизировать духовность ребенка. В самом деле, если дети наследуют Царство Небесное, почему мы должны останавливаться на ребенке? С таким же успехом мы могли бы с завистью смотреть на духовность наших родственников приматов, которые — пока они не заняты прелестями каннибализма, групповых изнасилований и детоубийства, — похожи на самых радостных детей.
Такой философ, как Хайдеггер, хотя он и печально знаменит тем, что восторгался Гитлером, заслуживает здесь нашего внимания, поскольку это не мешает считать его гигантом мысли Европы. Шопенгауэр, который, несомненно, был великим мыслителем, спустил с лестницы швею, после чего она навсегда осталась калекой (говорят, что философа раздражали звуки ее голоса). Можно вспомнить примеры и других выдающихся философов. Витгенштейн был, несомненно, трудным человеком, к тому же он с энтузиазмом прибегал к телесным наказаниям непослушных маленьких девочек. Это поразительный факт: ни один западный философ не может соперничать с великими философами-мистиками Востока. Кто-то может упомянуть Плотина как мистика, воспитанного в восточной части Запада. Однако сам Плотин признавал, что он лишь иногда на миг соприкасался с той полнотой, о которой все время писал. Члены какой-либо восточной школы созерцания в лучшем случае признали бы, что Плотин с энтузиазмом говорил о цели, к которой следует стремиться.