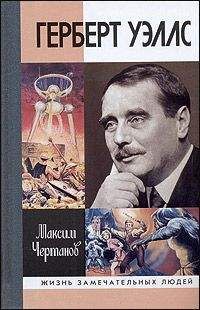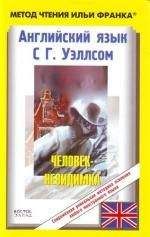Девушка работала ретушером в фотографическом ателье и посещала студию рисования; он встречал ее после работы или занятий, и они гуляли по городу. «У нас с самого начала возникло ощущение родства, которое, несмотря на все наши ссоры, женитьбу и развод, делало нас добрыми друзьями, сохранившими доверительность отношений до самого конца ее жизни, правда, я думаю, что нам с первой встречи лучше было бы оставаться братом и сестрой, тогда как ближайшее соседство, уединенная жизнь и необходимость навязали нам роль любовников». Уэллс написал о своих отношениях с первой женой много и вроде бы откровенно; тем не менее понять суть этих отношений затруднительно (его «самопрепарирование» многие вещи не проясняет, а затемняет): то он утверждает, что привязанность их была братской, то говорит, что это была безумная страсть без малейшего духовного родства; на одной странице Изабелла предстает ангелом, на другой — мещанкой, стремящейся низвести любимого до собственного уровня; герой пытается разложить свою любовь по полочкам, запутывается сам и запутывает биографов. Если же не усложнять, а, напротив, упростить ситуацию до уровня любимых Уэллсом схем, получается следующее: он любил, она позволяла любить себя. Изабелла была равнодушна к книгам. Ее представления о счастье были обычны: замужество и «приличная жизнь». Она не хотела связи вне брака, и в этом они с Гербертом расходились: ему импонировала идея «свободной любви». Характер у Изабеллы был твердый — и все получилось так, как она хотела.
Годичный курс обучения подошел к концу; Герберт сдал экзамены «по первому классу», то есть получил более 80 процентов оценок «отлично». Конечно, он хотел бы продолжить обучение биологии в Лондонском университете, но это было невозможно; экзаменационная комиссия отправила его на второй курс — физики, где деканом и основным лектором был Фредерик Гатри. В отличие от Хаксли это был ничем не примечательный профессор. Герберту лекции Гатри казались скучны и он ими пренебрегал; с лабораторными занятиями он не справлялся, опыты находил дурацкими. Руки у молодого Уэллса были «как крюки», все практическое вызывало у него неприязнь (так что хорошим анатомом или зоологом он бы все равно не стал); он хотел заниматься только теоретической наукой, областью чистых идей. Он мечтал, чтобы ему показали всеобъемлющую картину мира, научили одним взором постичь «все» — а ему преподавали разрозненные сведения и приказывали выполнять бесполезные задания. Велят, например, изготовить барометр — зачем это нужно ученому, ведь он не стеклодув! Он требовал, чтобы физика ответила ему на вопрос о соотношении между детерминизмом и свободой воли, а его вместо этого заставляли учить электрические или оптические формулы. Он стал прогуливать занятия, пререкался с преподавателями, на лекциях Гатри демонстративно читал книги по другим предметам, играл в карты с сокурсниками — только что кнопок на сиденье профессору не подкладывал (если бы подкладывал — не преминул бы написать об этом). Обыкновенный студент? Обыкновенный, да не совсем: зимой 1886 года он «от нечего делать» сдал экзамен по немецкому языку, выученному им самостоятельно, в Лондонском университете (там экзаменоваться могли все желающие). Но заплатить за обучение в университете он не мог.
Уже к концу второго года учебы Нормальная школа его разочаровала. Он ожидал, что наставники будут все как на подбор гениальные ученые, а они оказались обыкновенными людьми. Он надеялся, что Нормальная школа «знает, что с ним делать», а его предоставили самому себе. «Здесь нет разумной цели, объединяющей идеи, философской базы, социальной направленности, способных сделать колледж чем-то единым. А я не вижу иной надежды организовать и подчинить себе мировой порядок, кроме как через объединение педагогического и философского процессов». Конечно, для человека, намеревающегося подчинить себе мировой порядок, всякое техническое или естественное образование будет недостаточным. Его интересовали философия, социология, педагогика (но не политика и не экономика — в этих дисциплинах он до конца своих дней разбирался слабо).
Отдушиной оставался Дискуссионный клуб — там он в 1885-м прочитал доклад «Прошлое и будущее человеческой расы». Сперва он констатировал, что с развитием цивилизации человек уже изменился физически, но это пустяк по сравнению с тем, как еще ему предстоит измениться, приспосабливаясь к окружающей среде. Руки станут сильнее и гибче, прочие мускулы ослабнут, мозг увеличится, а с ним и голова; рот будет маленький, потому что с его помощью будут только разговаривать, но не есть — пищеварительного аппарата не станет вовсе и питательные вещества будут усваиваться через кожу; эмоции угаснут, способность к логическому мышлению возрастет. Ничего особенно оригинального он не выдумал — в конце XIX века многие видели будущего человека примерно таким. Основные положения этого доклада двумя годами позднее повторятся в ироническом эссе «Человек миллионного года» (The Man of the Year Million). Но об эволюции человека Уэллс уже тогда задумывался всерьез и уже тогда выразил сомнение в том, что этого человека будет правомерно назвать человеком, а не новым видом.
Он был обижен обществом, считал себя гадким утенком — естественно, его привлекал социализм. Неравенство людей — это нехорошо; нужно построить новое, справедливое общество. В Мидхерсте, изучив Платона и Генри Джорджа, он понял, что неравенство порождено частной собственностью, которая есть зло. Дальше можно было пойти в сторону Маркса. Но Маркса он терпеть не мог: называл его «напыщенным, самонадеянным и коварным» и неоднократно говорил, что, не будь Маркса на свете, жизнь была бы значительно лучше. Между прочим, нет никаких свидетельств тому, что он Маркса читал — разве что краткие выдержки из «Капитала», с которыми ознакомился на первом году учебы в Сауз-Кенсингтоне: он «был к тому времени достаточно умственно вооружен, чтобы по достоинству оценить его (Маркса. — М. Ч.) заманчивую, туманную и опасную идею переделки мира на основе одной лишь злобы и разрушения». «Обвинять других и злиться, что все не так, — естественное побуждение всякого человека, попавшего в беду», а Маркс, по мнению Уэллса, коварно играл на подобных чувствах, возникающих у людей из низших классов. На первый взгляд это неприятие марксизма юным Уэллсом кажется странным. Ведь он так остро ощущал себя и свою семью обездоленными, его так злили богатые молодые люди, которым все подносилось на тарелочке; он так мечтал о полной переделке мира и, учитывая его возраст, ему вроде должно было хотеться, чтобы эта переделка совершилась как можно скорей. «Отнять и поделить» — эта идея просто обязана была казаться ему заманчивой. Но дело в том, что бедных он не любил еще больше, чем богатых. «Маркс был за освобождение пролетариата, а я стою за его уничтожение».
Проще всего объяснить неприязнь Уэллса к пролетариату тем, что он по формальным признакам принадлежал к мелкой буржуазии, а значит, смотрел на рабочих сверху вниз. Но это объяснение верно лишь отчасти — да, происхождение накладывает отпечаток, но Уэллс ведь и мелкую буржуазию не любил тоже (как, впрочем, и крупную: он не жаловал никого, кроме интеллигенции и, как ни странно, помещичьей аристократии). Причина скорее была в том, что он не хотел признавать себя «низшим» и отказывался этим гордиться. «Я никогда не верил в превосходство низших. <…> Пылкая моя душа требовала равенства, но равенства социального статуса и возможностей, а не одинакового уважения ко всем или одинаковой платы; у меня не было ни малейшего желания отказаться от представлений о своем превосходстве и сравняться с людьми, добровольно признавшими свое униженное положение. Я считал, что быть первым в классе лучше, чем быть последним, и что мальчик, выдержавший экзамен, лучше того, который провалился».
Он выбирал не «хижины», населенные необразованными пьяницами и пошлыми женщинами, подобно дому на Уэст-борн-парк, а «дворцы», полные книг и картин, как «Ап-парк». Вольно было Марксу, родившемуся в интеллигентной семье, возлюбить пролетария и его лачугу; а поживи-ка он среди пролетариев сам — так, может, увидел бы, что не дворцам следует объявлять войну? Да, но как же «видел брата в сапожнике, кучере и всяком, кто плохо одет»? Да так, как если бы человек, чей родственник — опустившийся пьяница, злился бы, когда чужаки над этим родственником смеются и показывают на него пальцами.
В Лондоне Герберт надеялся встретить людей, с которыми можно было говорить о переустройстве общества без ограничений, налагаемых Дискуссионным клубом. Вместе с двумя товарищами по клубу, Бертоном и Смитом, они «объявили себя самыми отчаянными социалистами, в знак чего повязали красные галстуки». Галстуки радовали их несколько дней; потом они поняли, что этого недостаточно. Нужно было искать место, где регулярно собираются единомышленники. Они его нашли — как и большинство мест, где зарождаются социалистические идеи, оно представляло собой не хижину, а богатый особняк в фешенебельном районе Хаммерсмит, и жил там Уильям Моррис — поэт, переводчик, издатель, знаменитый мебельный дизайнер. Одну из оранжерей своего сада Моррис предоставлял для дискуссий, в которых участвовали вольнодумцы всех мастей — атеисты, анархисты, социалисты, политэмигранты, уцелевшие активисты Парижской коммуны, литераторы и художники без определенной партийной принадлежности, но главенствующую роль там играли члены лондонского Фабианского общества.