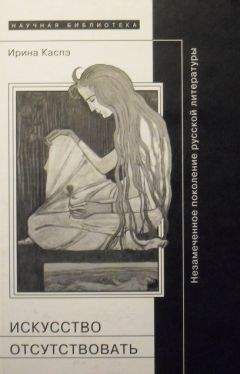Пожелтевшие страницы эмигрантских журналов способны подарить пытливому читателю неповторимые ощущения — время от времени он обнаруживает, что опубликованные более полувека назад тексты обращены непосредственно к нему. «Грядущий историк» — едва ли не самая распространенная адресная инстанция окололитературной публицистики 1930-х и написанных после Второй мировой войны мемуаров.
Фразы, преисполненные надежд на грядущего историка, становятся удачными эпиграфами — так, Елена Чинаева предпосылает своей монографии четверостишье Юрия Терапиано:
Печальную повесть изгнанья,
Быть может, напишут потом,
А мы под дождя дребезжанье
В промокшей земле подождем[86].
Эта риторика легко воспроизводится в послесловиях — так, Вячеслав Костиков в завершение рассказа о «путях и судьбах русской эмиграции» замечает: «Когда-нибудь — и, вероятно, не в очень отдаленном будущем — о русской эмиграции будет написана большая, обстоятельная книга, та самая „золотая книга“ русской эмиграции, о которой мечтал Георгий Адамович. Для этого потребуется труд многих авторов, ибо исчерпать одному этот трагический колодец памяти нет ни возможности, ни сил»[87].
Замысел капитального каталога, исчерпывающей Книги, с одной стороны, и признание неисчерпаемости темы, определение собственного труда как пробного опыта, первого подхода, с другой — характерный способ говорить об эмигрантской литературе.
Между тем первая «большая и обстоятельная» книга на эту тему была написана не «грядущим ученым», а участником литературной жизни послереволюционного эмигрантского сообщества — в 1956 году в Нью-Йорке вышла «Русская литература в изгнании» Глеба Струве. Здесь необходимо сделать еще одну методологическую оговорку, по всей видимости, последнюю. «Незамеченное поколение» Варшавского появляется в том же 1956 году, «Одиночество и свобода» Адамовича — только на год раньше, «Поля Елисейские» Яновского — много позднее, в 1983-м. Понятно, что в данном случае грань между основными источниками и «литературой вопроса» особенно условна. Для нас здесь определяющую роль будет играть не «полнота изложения», не «доказательность», иными словами, не критерии «научного» или «критического» языка (которые сами по себе проблематичны), а модальность высказывания — значимость авторского «я», выясняющего отношения с воссоздаваемым коллективным образом эмигрантской литературы. Под выяснением отношений, конечно, подразумевается не только идентификация с когортой «молодых» или «незамеченных» литераторов, но и противопоставление себя этому коллективному образу — так, статьи и воспоминания, в которых Зинаида Шаховская активно отрицает собственную принадлежность «незамеченному поколению», будут рассматриваться в следующих главах, вместе с основными источниками, в то время как книга Струве, практически лишенная личных местоимений, подчеркнуто дистанцированная от описываемых литературных событий, — вместе с исследованиями «грядущих историков».
Итак, жанр солидного тома Струве обозначен как «Опыт исторического обзора зарубежной литературы». В оглавление вынесены опорные точки рассказываемой истории — ее географические координаты, периоды, поколения и имена — по этим рубрикам и производится инвентаризация литературных событий. Тот же принцип, те же рубрики явно доминируют в последующих монографиях и сборниках. Заглавия этих книг (часто взаимозаменяемые, а нередко дословно совпадающие друг с другом), как правило, не столько обозначают проблему, сколько называют предмет исследования: «Русская литература в эмиграции», «Литература русского зарубежья», «Русское литературное зарубежье», «Литературное зарубежье», «Литературные центры русского зарубежья», «Культурное наследие российской эмиграции», «Культура российского зарубежья». Едва ли не самая распространенная форма, в которой преподносится история «русской литературы в эмиграции», — энциклопедия, справочник[88]. Разумеется, один из обширных энциклопедических словарей был озаглавлен «Золотая книга русской эмиграции»[89]. За последние десять лет в России выходит множество учебных пособий[90], а одно из наиболее объемных изданий по нашей теме — монографию «Литература русского зарубежья» Олега Михайлова — легко принять за учебник, увидев характерные цитаты на форзаце.
И установка на самоочевидность, самодостаточность предмета исследования, и популярные способы трансляции исторического знания — от энциклопедии до учебного пособия — отсылают к определенному типу истории. Это история, не просто создающая, но и присваивающая свой предмет через опись, тотальную каталогизацию одних фактов культуры и упразднение, отсечение других, — история, востребованная в периоды становления национальных государств и возникновения национальных культур, актуальная в XIX веке, существующая прежде всего как инструмент власти. Конечно, наиболее явные попытки присвоения «эмигрантской литературы» связаны с ее «возвращением на Родину», «заполнением белых пятен», то есть с риторикой постсоветского времени; в некоторых случаях такое присвоение приобретает гротескные масштабы: «Сегодня в ожидании рассвета верится, что духовные ценности этой единой литературы помогут России пережить тяжелую пору нравственных сумерек: культа животных наслаждений и вещизма, безудержного стяжательства и сгущения метафизического Зла»[91]. Однако для нас важны особые традиции обращения с «эмигрантской литературой», складывающиеся задолго до того, как она получает статус едва ли не учебной дисциплины. Необходимость удостоверить существование «эмигрантской литературы», написав абсолютно исчерпывающую ее историю, в той или иной степени ощущается практически каждым исследователем, который занимается этой темой. Распространенный прием — перечисление персоналий, длинные списки имен, превращающие исследование в памятник или братскую могилу[92] (аналогичным образом скрупулезными перечнями имен неоднократно прерываются мемуары Романа Гуля: «…Всех не перечислить, обрываю», «Как всегда при таких перечислениях я, наверное, кого-нибудь пропустил. Да не разгневаются пропущенные»[93]). Распространенная форма апелляции к источникам — скрытое цитирование, нередко очевидное только для специалистов, всеми остальными текст должен восприниматься как непрерывный поток априорно известных фактов и само собой разумеющихся оценок. Тонкая грань между владением материалом и овладением им истончается до предела при попытках ответить на безусловно ключевой для конструирования образа «литературного зарубежья» вопрос, в конце 1970-х годов определивший тему женевской конференции: «Одна или две русских литературы?»[94]. По наблюдению Елены Тихомировой, «в вынесенной для обсуждения проблеме проблемы как таковой, по существу, для участников дискуссий не было. Все они сходились в том, что русская литература по ту и другую сторону границы — едина»[95]. Та же «противоречивая целостность» утверждается и в упрощенной формулировке начала 1990-х годов: «Одна литература и два литературных процесса»[96]. Для нас здесь значимо, во-первых, то, что утверждению единства сопутствуют упоминания о двойственности. Во-вторых — то, что «зарубежная литература», возникая как исследовательский конструкт, активизирует представления о литературе как о некоей изначальной и потенциальной целостности; поэтому и сюжет раздвоения передается при помощи категорий, наделенных семантикой внутреннего единства — «литературный процесс». Более того, это представление о литературе выражается на самых разных исследовательских языках: скажем, Лазарь Флейшман, используя структуралистскую терминологию, определяет эмиграцию и эмигрантскую литературу как «распад системы на подсистемы»[97]. Под онтологически целостной литературой здесь, конечно, подразумевается литература национальная: «Понятие „литература эмиграции“, „литература русского зарубежья“ возникло и существует в противоположность литературе в „метрополии“, в России. Однако смысл его вовсе не в том, чего больше в русской литературе, советской или, напротив, западной, и не только в том, что в западной есть то, чего нет в советской и наоборот. Культурологический феномен заключен именно в самом факте отличия части от целого, когда часть (советская либо зарубежная) не дает достаточного представления о целом»[98].
Иными словами, «грядущий историк» обладает полномочиями не только конструировать или реконструировать свой предмет, но и присваивать ему те или иные модусы существования. «Противоречивая целостность» подразумевает, что, вопреки непреодолимым трудностям, литература, о которой идет речь, являлась, с одной стороны, русской, с другой стороны — эмигрантской, то есть так или иначе безусловно была, существовала. Это утверждение существования «литературы за рубежом» становится своеобразным откликом на актуальную для эмигрантской публицистики 1920–1930-х годов мессианскую риторику: под «миссией литературы» могло пониматься либо сохранение всего «подлинно русского», либо, в чуть более радикальной трактовке, — культивирование чего-то «подлинно эмигрантского»[99]. В обоих случаях речь идет о национальной идентичности; однако из структуры национального устраняется центральная инстанция власти, способная задать границы национальных институтов, координировать их взаимодействие, утвердить те или иные нормативные определения. Регулятивные, нормативные функции и проецируются на фигуру «грядущего историка». «Грядущий историк» здесь призван решить проблемы не столько личностной идентичности эмигрантского писателя, тоскующего по русскоязычному читателю, сколько проблемы идентичности групповой, коллективной. Как представляется, метафора времени, наделенного способностью расставлять окончательные акценты, не только подсказывала ожидаемые ответы на актуальные для эмигрантских литературных кругов вопросы (о читателе, о литературной преемственности и пр.): пожалуй, это была единственная метафора, которая могла использоваться для обращения к властной инстанции, для разговора с властью. Важно, что эта инстанция не находится внутри выстраиваемого литературного пространства (волей обстоятельств в высшей степени тесного и замкнутого) и указывает на существование других реальностей за его пределами. Именно благодаря столь сложному способу смотреть на себя — глазами «грядущего историка» — эта литература обретает необходимые, непременно внелитературные свойства и предикаты, становится «русской» и/или «эмигрантской». Со своей стороны, историки склонны присваивать статус центральной инстанции литературе или русскому языку, который, как правило, в конечном счете все равно отождествляется с литературой: «Конечно, литературное произведение легче всего распространить и „экспортировать“, а язык — главная черта, определяющая единство нации»[100]. В этом смысле интересно наблюдение Елены Менегальдо: «Безграничная любовь русской диаспоры к родному языку побуждает превратить 6 июня, день рождения Пушкина, в свой национальный праздник — вопреки воле Церкви, которая настаивала на том, чтобы выбрать для этого 28 июля, день святого Владимира — в этот день в 988 году князь Владимир Святославович обратил в христианство Киевскую Русь»[101].