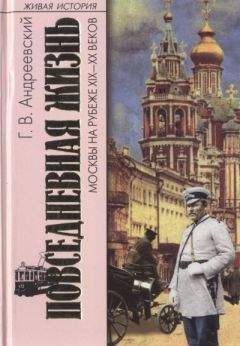Конечно, гимназистки нового века имели свои недостатки, и всё-таки, несмотря на это, они нам ближе и понятнее. В чудом сохранившемся гимназическом сочинении об Обломове, отрывок из которого я позволю себе привести, моя бабушка писала: «… Если он хотел сделать что-нибудь сам, ему тотчас кричали: „Что с тобой, что ты, что ты, а зачем же Ванька, Васька, Захарка? Эй, Ванька, Васька и Захарка!“ Прибегали Ванька, Васька и Захарка, и Обломову никогда не удавалось сделать что-нибудь самому. Сначала это его удручало, а потом он уже сам стал сзывать Захарок и Васек Он с детства привык разделять человечество на „людей“ и господ. Часто он слышал заунывную песнь бабы, но он не интересовался, почему она так поёт, он проходил мимо нужды и несчастий „людей“. Он знал только, что „люди“ существуют для господ, чтобы господа могли, ничего не делая, пользоваться трудами этих несчастных крепостных. И такая бездеятельность, какую мы видим и в Обломове и в окружающих его, есть не что иное, как следствие крепостного права. Они все, деды и прадеды, они сами привыкли всё получать готовым. Эта самая главная черта, сделавшая из Обломова то, чем он стал… Вполне естественно, что, превратившись из ребёнка в юношу, вступив в жизнь, он испугался этой жизни. Он думал найти в начальнике департамента, в который поступил, отца родного и был совершенно подавлен, увидев в нём строгого судью его деятельности, и он бежал от службы и спрятался в свой халат, в котором мы его и застаём».
По-моему, вполне современное сочинение, по крайней мере, для моего поколения. И главное, в нём полностью отсутствуют такие, казавшиеся тогда умными, мысли о справедливо установленном самим Богом порядке, при котором бедные существуют для богатых, а богатые — для бедных. Это был нормальный взгляд на жизнь. Сформировался ли он под влиянием Добролюбова, Льва Толстого или кого-либо другого, не столь уж важно. Важно то, что в России появилось новое поколение деятельных, искренне чувствующих и открытых для познания мира людей. Им, надо полагать, было близко мнение Антона Павловича Чехова в отношении этого литературного персонажа. В одном из своих писем он отозвался об Обломове похуже моей бабушки.
Вот что он писал: «Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет».
Гимназисты XX века на уроках литературы учились мыслить. Преподаватели ставили перед ними вопросы, которые волей-неволей заставляли их задумываться.
Об этом говорят такие темы сочинений, как, например, «Отличие искусства от науки», «Романтизм в произведениях Гоголя», «Я телом в прахе изнываю, умом громам повелеваю» (об отличительных чертах литературы екатерининского времени), «Влияние крепостного права на жизнь и характер помещиков и крестьян по рассказам Тургенева „Малиновая вода“, „Льгов“, „Бурмистр“», «Почему потомки оценивают великих людей справедливее, чем их современники?», «Как сказалась личность Гоголя в его биографии и в его произведениях?», «Можно ли назвать чисто реальными произведениями „Петербургские повести“ Гоголя?», «Какие деятели XVII века могут считаться прямыми предшественниками Петра Великого?» и пр. Озадачивали преподаватели своих учеников вопросами о Тартюфе, о Макбете, предлагали им, например, сравнить шекспировского короля Ричарда III с пушкинским Борисом Годуновым, порассуждать о поэтическом вдохновении или о том, как отразилась личность Лермонтова на героях его произведений. Те, кто искренне интересовался всеми этими вопросами, для кого они были не обузой, непригодной для жизни, составляли лучшую часть русской молодёжи, ту часть, за которую, что бы ни случилось, России не стыдно. Были и другие ученики, далёкие от литературных и вообще каких бы то ни было высоких интересов. Именно они вызывали наибольшие опасения у благонамеренных жителей нашего города своим мерзким и возмутительным поведением. В Москве появились хулиганы и не из пролетариев или босяков, а из гимназистов! Приглядевшись к ученикам различных частных учебных заведений, автор одной из статей в «Московских ведомостях» с возмущением отмечал, что хулиганы эти вместо формы носят чудовищной широты кушаки и фуражки, чуть прикрывающие макушку. Они бродят толпами по улицам и бульварам города, пристают к гимназисткам, обижают и оскорбляют их. Главную причину такого поведения молодёжи автор статьи усмотрел в «источниках вдохновения» хулиганствующих подростков. С нескрываемым сарказмом он писал о том, что нарождению хулиганов способствуют такие «высокоталантливые» произведения Найдёнова и Максима Горького, как «Дети Ванюшина» и «Мещане», ибо в пьесах этих не только фигурируют хулиганы, но и симпатии авторов склоняются на их сторону. Интересно, кого же в «Мещанах» автор считал хулиганом, уж не паровозника ли Нила? То, что далее писал автор статьи, очень напоминает причитание по поводу молодёжи представителей последующих поколений России. А писал он вот что: «Теперь дети очень рано перестают быть детьми по образу жизни, но, конечно, остаются детьми по разуму. Воспринимая множество впечатлений, они не в силах переварить эти впечатления, отчего и получаются сумбур, „шатание“, которые и вырождаются в декадентство и хулиганство». «Мы, — приводил он в пример своё поколение, — смотрели в детстве „Велизария“, читали Плутарха в изложении для юношества, играли в лапту, в горелки, много бегая и оставаясь на воздухе, катались на коньках, на лыжах, строили снеговые горы и крепости. Теперешние дети читают всё и всё смотрят на сцене, ибо родители пришли к заключению, что „здоровая умственная пища“ одинаково полезна как для взрослых, так и для детей… На детских танцевальных вечерах, отплясывая непристойные танцы, они стараются на утеху маменек перещеголять удалью и развязностью манер взрослых танцоров… Хулиган хочет показать себя, но не имея силы для большого дебоша, толкает женщин и стариков, разрушает садовые скамьи и решётки, а в театрах устраивает манифестации и беспорядки». Наш критик юного поколения был, наверное, во многом прав. В предвоенные годы, во всяком случае, многих стала возмущать появившаяся в обществе мода на презрительное отношение детей к родителям. Проявлялось это прежде всего в присвоении детьми презрительной клички «мещане» своим родителям. Сопливые юнцы стали осуждать и высмеивать их за необразованность, допотопность морали, отсталость политических взглядов и религиозность. И всё-таки мне представляется, что автор статьи сгустил краски. Мода на пренебрежение к родителям охватила далеко не всю молодёжь, и то, что Велизарий был великим полководцем, ещё не давало права журналисту обзывать великого пролетарского писателя проповедником хулиганства. Не случайно, я думаю, детоненавистник из «Московских ведомостей» с особенным рвением взялся за тех учащихся, которые не носили формы. Среди них ему было легче найти разгильдяев, чем среди тех, которые её носили: форма ведь ко многому обязывает. Школьные правила предписывали гимназистам и реалистам (ученикам реальных училищ) носить её не только в учебном заведении. Несоблюдение этого правила считалось грубым нарушением дисциплины. Как-то на Страстной неделе попечитель заметил на Грибном рынке ученика восьмого класса гимназии № 6 Тарасова, одетого в обычную одежду. За такое вольномыслие Тарасов схлопотал тройку по поведению. Он ещё легко отделался. Другому гимназисту той же гимназии, Бахтиярову, за это не только поставили тройку по поведению, но и запретили ходить на занятия до самых экзаменов. Правда, этот Бахтияров, кроме того, что сам не носил форму, подбивал на этот грех других гимназистов. Не ценили, видно, эти троечники своей формы, а ведь многие им завидовали именно потому, что они её носили. Да и как было не завидовать? Красивая была форма. У гимназистов шинели были серые, а у реалистов — зелёные. Пуговицы у гимназистов были серебряные, а у реалистов — золотые. Петлицы на воротничках и фуражки у гимназистов были тёмно-синие, а у реалистов — тёмно-зелёные. У тех и у других на пряжках ремней и на кокардах фуражек красовались инициалы их учебных заведений. Общим у гимназистов и реалистов было ещё и то, что они гордились своей формой и не упускали возможности съехидничать по поводу формы соперников. Когда «трактирных мальчиков» одели в одежду, похожую на форму гимназистов: серые рубашки, чёрные брюки и ремни с медной бляхой, реалисты не упустили возможности назвать гимназистов «трактирными мальчиками». Однако и форма не гарантировала образцово-показательного поведения.
Для недовольства гимназистами у старшего поколения были и другие, более серьёзные причины. «Если раньше, — сокрушались старики, — ученика средней школы можно было встретить лишь изредка в задней комнате какой-нибудь пивной лавки, то теперь его можно встретить в обществе всякого сброда, даже женщин лёгкого поведения. Ученики с папиросами в зубах сидят на самых видных местах и без всякого стеснения ведут нагло-циничные речи». Они ругали черносотенцев, рассуждали о модах, непочтительно отзывались о преподавателях. Расстраивало ещё и то, что у родителей всё меньше оставалось средств воздействия на своих отпрысков. Взять хотя бы купца Хлебникова, имевшего магазин серебряных, золотых и бриллиантовых изделий на Ильинке, в доме Новгородского подворья. В 1870 году он узнал о том, что его сын, гимназист, сошёлся с бывшей дворовой девкой Еленой Ивановой, с которой его познакомил товарищ по фамилии Горюнов. Этот Горюнов снимал квартиру недалеко от гимназии. Сын же жил в пансионе Реймана, на Тверской, в доме князей Белосельских-Белозерских, за что он, купец Хлебников, платил каждый год по 450 рублей. Мало этого, сын, к ужасу родителей, бросил учиться. За всё это отец его перво-наперво, конечно, выдрал, но это не помогло. Уговоры, убеждения, просьбы также не возымели результата. Тогда отец обратился к московскому обер-полицмейстеру, умоляя принять к сыну меры, девку заточить в монастырь, а подлеца Горюнова выслать из Москвы. На это ему было сказано, что никаких оснований для того, чтобы выслать Горюнова из Москвы нет, а к сыну он может применить «домашние исправительные меры», которые, как известно, он уже применил. «В случае же безуспешности всех этих средств, — разъяснили купцу чиновники, — вы властны отдать сына в смирительный дом без особенного судебного рассмотрения». Теперь отправить сына в смирительный дом без особенного судебного рассмотрения стало невозможно. Надо было придумать что-то другое. Но что?